
«...Песиголовцев надменных дела и племен массагетских
В недрах живущего люда и немощных также пигмеев,
Рода несметного черных и с ними еще длиноглавов
...родила Земля-исполинша» [Гесиод 2001. С. 137].
Гряда холмов в древней Фессалии, близ Скотуссы, носила название «Киноскефалы» (др.-греч. Κυνὸς κεφαλαί; буквально: «собачьи головы»). Древнегреческий историк II в. до н.э. Полибий описывал их как довольно высокие. Киноскефалы памятны как сцена двух сражений: битвы при Киноскефалах в 364 г. до н.э. между фиванцами и войском Александра Ферского, в которой фиванский полководец Пелопид нанёс поражение тирану города Феры, хотя и сам погиб в бою; а также ещё более знаменитой битвы при Киноскефалах в 197 г. до н.э., в которой Филипп V Македонский потерпел поражение от римского консула Тита Квинктия Фламинина, что привело к завершению Второй Македонской войны. Возможно, позднее эта местность из-за её названия могла представляться средневековым картографам местом обитания кинокефалов.
Хотя сравнить человека с псом или собакой в эпоху античности, как и в наше время, в целом, означало нанести ему оскорбление, о знаменитом философе-кинике Диогене Синопском (ок. 412—323 гг. до н.э.) другой философ, принадлежащий к этой же школе, поэт и государственный деятель Керкид из Мегалополя, живший в III в. до н.э., писал с нескрываемым уважением: «...философ Синопский <...> — Диоген, / Зевса потомок, пес, достойный небес» [Антология кинизма 1984. С. 81]. В сохранившихся фрагментах Венского папируса, датируемого I в. до н.э., сам Диоген «предстает в своей обычной форме насмешника и обличителя. Прежде всего, он горд своей славой киника-собаки и, отвечая на вопросы „ты кто?“ и „откуда?“, охотно шутит по этому поводу и, прибегая к излюбленной игре слов, называет себя не мелитской (мальтийской) комнатной собачкой (melitaios), как у Диогена Лаэртского (VI, 55), а амелитской (amelitaios), т.е. беззаботной... <...> В другом анекдоте этого же папируса Диоген заявляет, что хочет быть, а не казаться собакой» [Нахов 1981. С. 137].

«...Песиголовцев надменных дела и племен массагетских
В недрах живущего люда и немощных также пигмеев,
Рода несметного черных и с ними еще длиноглавов
...родила Земля-исполинша» [Гесиод 2001. С. 137].
Гряда холмов в древней Фессалии, близ Скотуссы, носила название «Киноскефалы» (др.-греч. Κυνὸς κεφαλαί; буквально: «собачьи головы»). Древнегреческий историк II в. до н.э. Полибий описывал их как довольно высокие. Киноскефалы памятны как сцена двух сражений: битвы при Киноскефалах в 364 г. до н.э. между фиванцами и войском Александра Ферского, в которой фиванский полководец Пелопид нанёс поражение тирану города Феры, хотя и сам погиб в бою; а также ещё более знаменитой битвы при Киноскефалах в 197 г. до н.э., в которой Филипп V Македонский потерпел поражение от римского консула Тита Квинктия Фламинина, что привело к завершению Второй Македонской войны. Возможно, позднее эта местность из-за её названия могла представляться средневековым картографам местом обитания кинокефалов.
Хотя сравнить человека с псом или собакой в эпоху античности, как и в наше время, в целом, означало нанести ему оскорбление, о знаменитом философе-кинике Диогене Синопском (ок. 412—323 гг. до н.э.) другой философ, принадлежащий к этой же школе, поэт и государственный деятель Керкид из Мегалополя, живший в III в. до н.э., писал с нескрываемым уважением: «...философ Синопский <...> — Диоген, / Зевса потомок, пес, достойный небес» [Антология кинизма 1984. С. 81]. В сохранившихся фрагментах Венского папируса, датируемого I в. до н.э., сам Диоген «предстает в своей обычной форме насмешника и обличителя. Прежде всего, он горд своей славой киника-собаки и, отвечая на вопросы „ты кто?“ и „откуда?“, охотно шутит по этому поводу и, прибегая к излюбленной игре слов, называет себя не мелитской (мальтийской) комнатной собачкой (melitaios), как у Диогена Лаэртского (VI, 55), а амелитской (amelitaios), т.е. беззаботной... <...> В другом анекдоте этого же папируса Диоген заявляет, что хочет быть, а не казаться собакой» [Нахов 1981. С. 137].
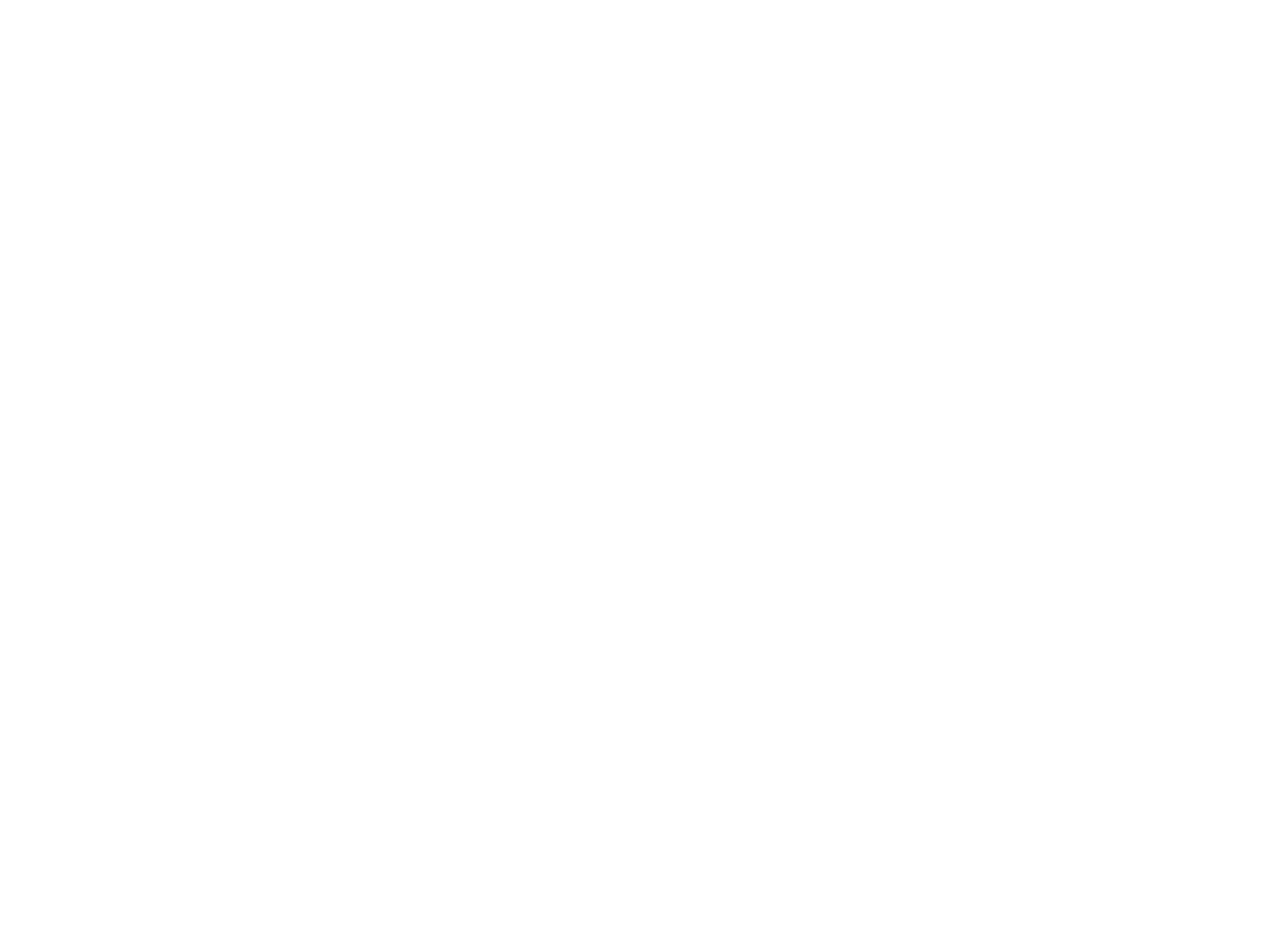
Диоген в изображении Жана-Леона Жерома (1860)
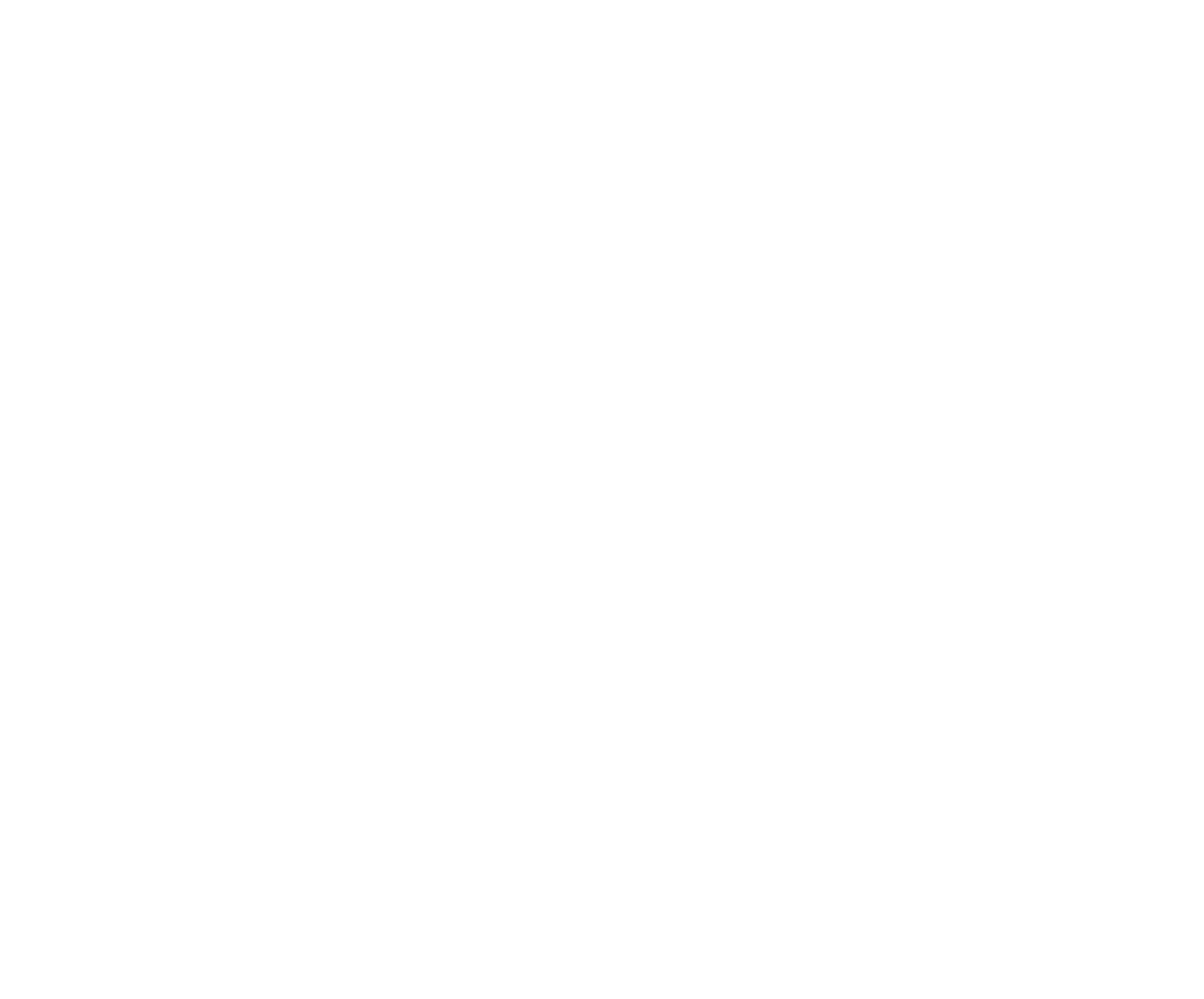
Гравюра Ольферта Даппера (1688) с реконструкцией могилы Диогена
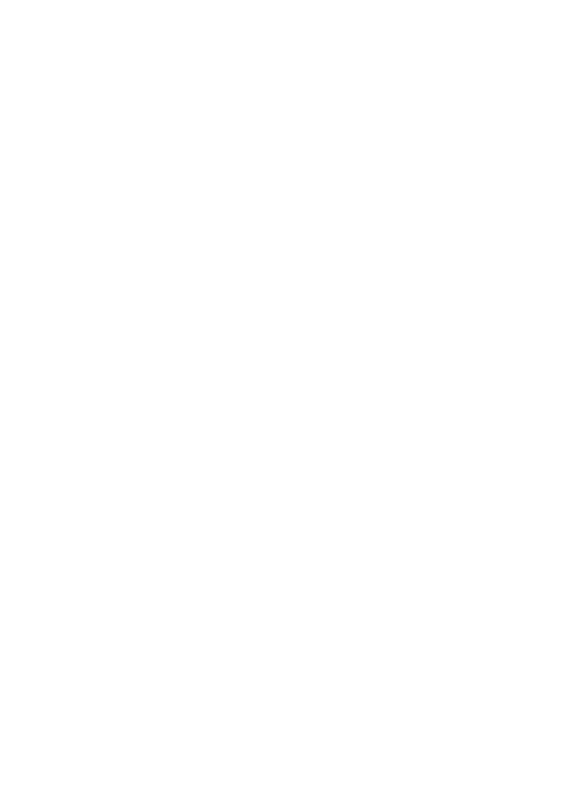
Рисунок из «Александрии» (XVII в.). В одном из списков романа конца XV в. читаем, как царь Александр «во псоглавныя люди поиде. Ти убо человеци такови: все тело их человеческо бяше, главы же песьи, гласи же им бяху, человеческы глаголаху и пескы лаяху. Сих Александр много избив и землю их за 10 ден преиде» [Александрия 1965. С. 42]
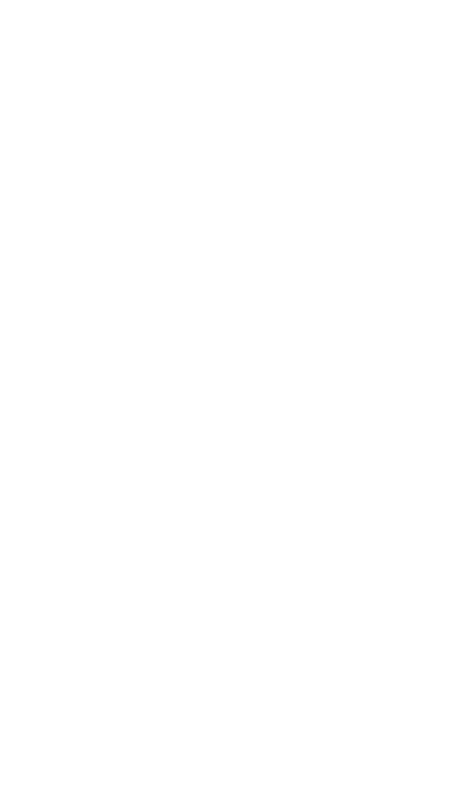
Александр Македонский и птицелюди. Миниатюра из рукописи «Александрии» XVII в. [Александрия 1965. Илл.-вклейка после стр. 40]
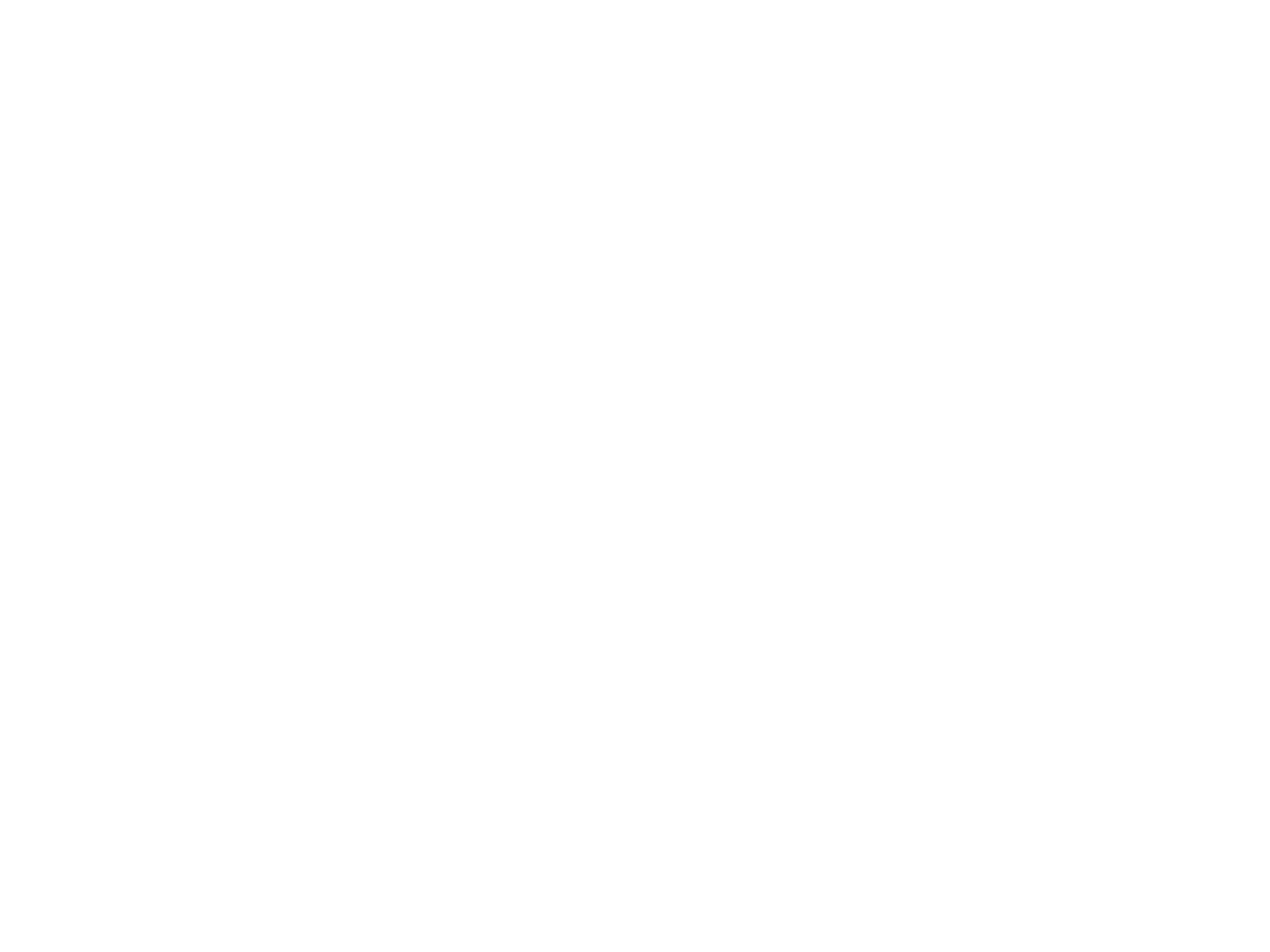
Псоглавцы на иллюстрациях из цитируемого выше русскоязычного издания книги Марко Поло 1955 г.
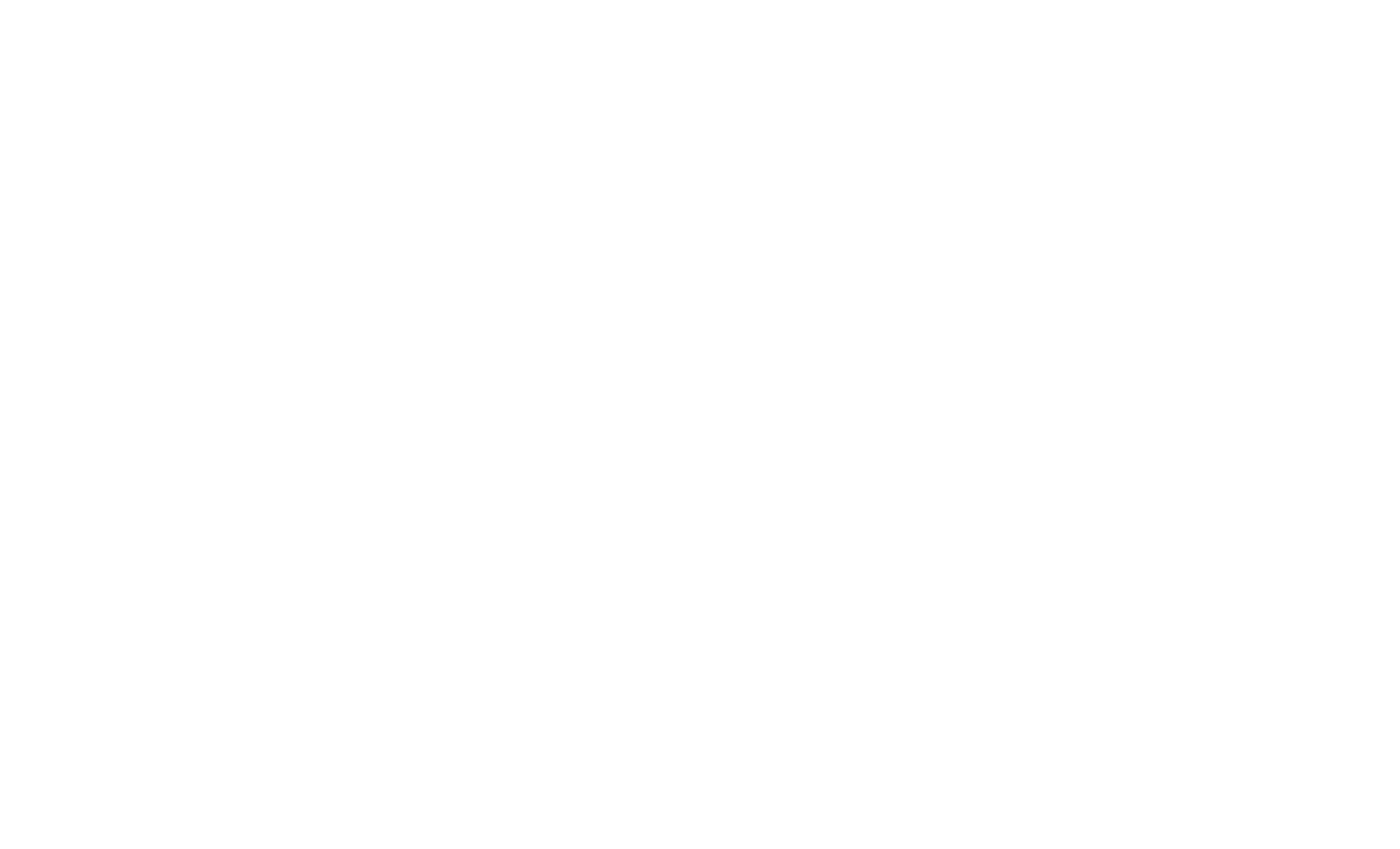
Псоглавцы Никобарских островов. Из «Itinerarium» Одорико Порденоне, знаменитого путешественника XIV в., посетившего Индию, Суматру и Китай (Manuscript Français 2810, fol. 106). Изображение датируется перв. пол. XV в.
На англо-саксонской карте второй четверти XI в. (London, BL, Cotton Tiberius B.V (pt. 1), f. 56v): «Среди народов Африки указаны кинокефалы (песьеглавцы), которые на более поздних английских картах переместятся на север Азии» [Чекин 1999. С. 119].
На англо-саксонской карте второй четверти XI в. (London, BL, Cotton Tiberius B.V (pt. 1), f. 56v): «Среди народов Африки указаны кинокефалы (песьеглавцы), которые на более поздних английских картах переместятся на север Азии» [Чекин 1999. С. 119].
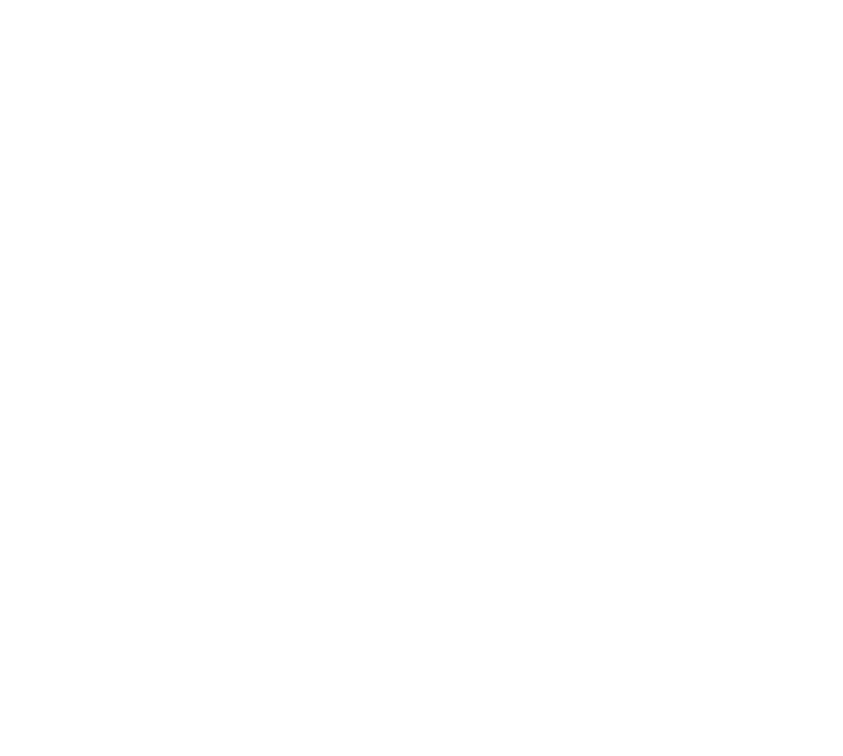
Кинокефал на ксилографической иллюстрации из «Нюрнбергской хроники» (лат. Liber Chronicarum, нем. Die Schedelsche Weltchronik) — редкой инкунабулы 1493 г.
Другие говорят, что они зачинают либо от проезжающих купцов, либо от живущих среди них пленников, либо от других чудовищ, которые там не редки; и это мы полагаем наиболее вероятным. Когда же дело доходит до родов, то дети мужского пола становятся киноскефалами, а женского — прекраснейшими женщинами. Живя все вместе, они презирают общество мужчин, и даже, если те приходят, мужественно прогоняют их от себя. Киноскефалы — это те, которые носят голову на груди. Их часто видят пленниками на Руси, и они громко лают вперемежку со словами. Там есть также те, которые зовутся аланами или альбанами, а на своём собственном языке — виссами; они — безжалостные амброны и рождаются с седыми волосами. О них упоминает писатель Солин. Их родину охраняют собаки, и если доходит до битвы, то они выстраивают собак в боевом порядке. Там есть также бледные, зелёные и макробии, то есть длинные люди, которых называют гузами; и, наконец, те, которых именуют антропофагами, ибо они едят человеческое мясо. Есть там и множество других чудовищ, которых по их словам часто видят моряки, хотя нам это кажется едва ли заслуживающим доверия» [Адам Бременский 2011. С. 105].
Источником сведений о кинокефалах на вышеупомянутой карте Генриха Майнцского, или Солийской карте (Cambridge, CCC, 66, p. 2), датируемой концом XII — началом XIII в., могли быть не только «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» Адама Бременского, как полагают некоторые исследователи, но и более ранняя «Космография» Этика Истрийского (VIII в.) [Чекин 1999. С. 128]. Ср. другой вариант перевода фрагмента текста на Солийской карте: «Албания. Антропофаги. Птерофорон. Здесь вечный холод. Рифейские горы. Граница Азии и Европы. Река Танаис. Здесь живут негодные люди грифы. Кинокефалы. Даския [Дакия(?), — прим. В.] и Русь. Данубий» [Чекин 1999. С. 129].
Другие говорят, что они зачинают либо от проезжающих купцов, либо от живущих среди них пленников, либо от других чудовищ, которые там не редки; и это мы полагаем наиболее вероятным. Когда же дело доходит до родов, то дети мужского пола становятся киноскефалами, а женского — прекраснейшими женщинами. Живя все вместе, они презирают общество мужчин, и даже, если те приходят, мужественно прогоняют их от себя. Киноскефалы — это те, которые носят голову на груди. Их часто видят пленниками на Руси, и они громко лают вперемежку со словами. Там есть также те, которые зовутся аланами или альбанами, а на своём собственном языке — виссами; они — безжалостные амброны и рождаются с седыми волосами. О них упоминает писатель Солин. Их родину охраняют собаки, и если доходит до битвы, то они выстраивают собак в боевом порядке. Там есть также бледные, зелёные и макробии, то есть длинные люди, которых называют гузами; и, наконец, те, которых именуют антропофагами, ибо они едят человеческое мясо. Есть там и множество других чудовищ, которых по их словам часто видят моряки, хотя нам это кажется едва ли заслуживающим доверия» [Адам Бременский 2011. С. 105].
Источником сведений о кинокефалах на вышеупомянутой карте Генриха Майнцского, или Солийской карте (Cambridge, CCC, 66, p. 2), датируемой концом XII — началом XIII в., могли быть не только «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» Адама Бременского, как полагают некоторые исследователи, но и более ранняя «Космография» Этика Истрийского (VIII в.) [Чекин 1999. С. 128]. Ср. другой вариант перевода фрагмента текста на Солийской карте: «Албания. Антропофаги. Птерофорон. Здесь вечный холод. Рифейские горы. Граница Азии и Европы. Река Танаис. Здесь живут негодные люди грифы. Кинокефалы. Даския [Дакия(?), — прим. В.] и Русь. Данубий» [Чекин 1999. С. 129].
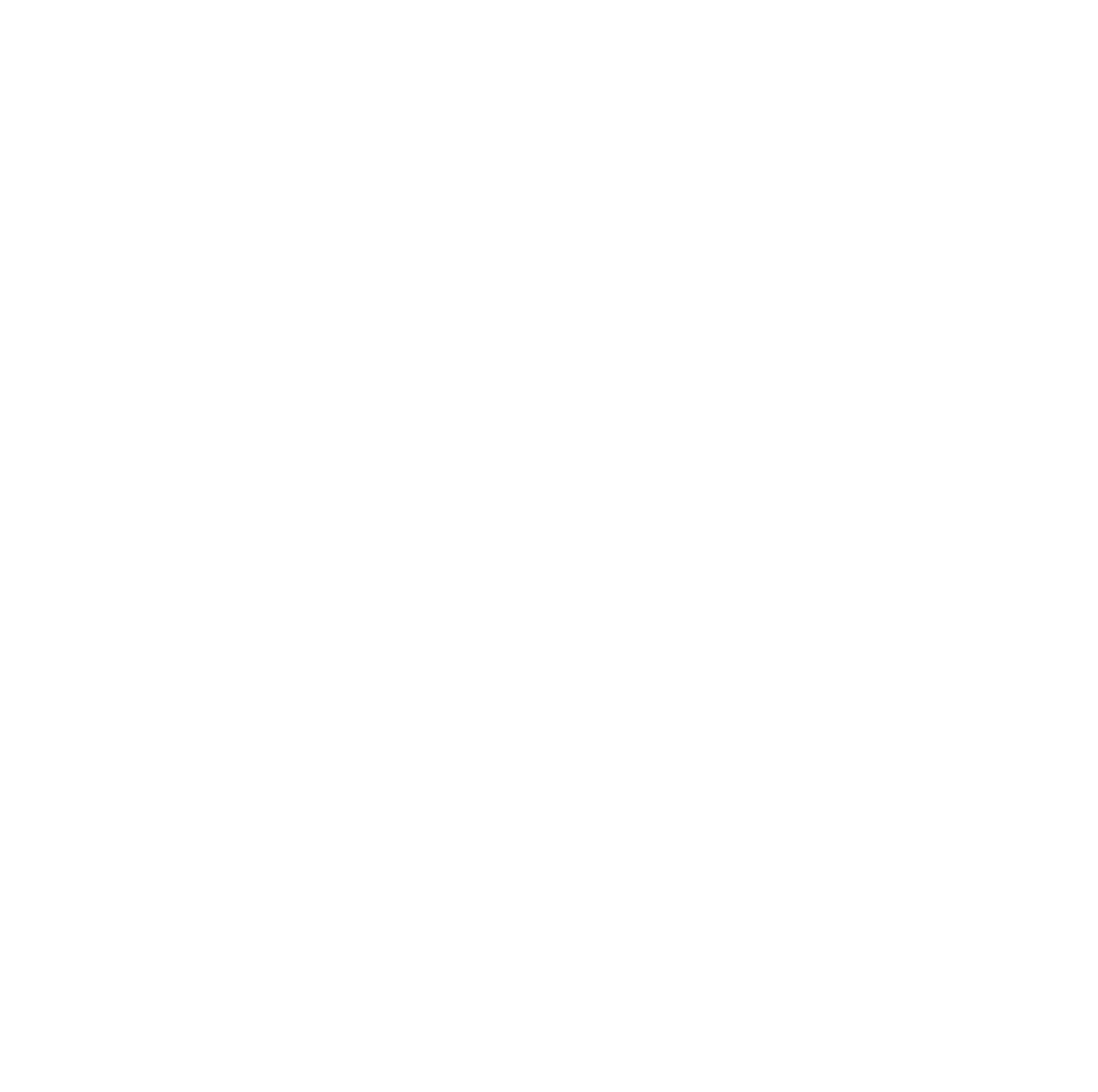
Эбсторфская карта мира (XIII в.)
Заметим, что изображения русских и прилегающих к ним земель (и не только их) на Эбсторфской карте полны неточностей, естественных для той эпохи: «Каспийское море показано как залив океана. На северо-западе Западная Двина начинается в Руцкой стране, дальше по ее течению расположены города Плоцеке (Плоцк), Смалентике (Смоленск), а в устье — Рига, Ливонский город. Восточнее этого пункта в океан впадает река „Олхис, который Волкаус“ (Волхов); в его среднем течении расположен Новгардус (Новгород), а в верхнем — Кивен (Киев). Очевидно, автор очень смутно представлял себе „путь из варяг в греки“, шедший из Балтийского моря в Черное через Волхов, Новгород, далее волоком до Днепра и вниз по нему до Киева. На карте река в районе Киева теряется в горах, расположенных южнее, и даже не приближается к Черному морю» [Багров 2005. С. 39].
На Херефордской карте (Hereford, the Cathedral), датируемой примерно 1290 г., псоглавцы (Cinocephales) поселены «между Меотийскими болотами и рекой Корвус» [Чекин 1999. С. 155]: «В этой местности живут кинокефалы. Здесь живут негоднейшие люди грифы. Ведь, кроме всего прочего, они делают себе одежду и седла своим лошадям из кожи врагов» [Чекин 1999. С. 157].
Заметим, что изображения русских и прилегающих к ним земель (и не только их) на Эбсторфской карте полны неточностей, естественных для той эпохи: «Каспийское море показано как залив океана. На северо-западе Западная Двина начинается в Руцкой стране, дальше по ее течению расположены города Плоцеке (Плоцк), Смалентике (Смоленск), а в устье — Рига, Ливонский город. Восточнее этого пункта в океан впадает река „Олхис, который Волкаус“ (Волхов); в его среднем течении расположен Новгардус (Новгород), а в верхнем — Кивен (Киев). Очевидно, автор очень смутно представлял себе „путь из варяг в греки“, шедший из Балтийского моря в Черное через Волхов, Новгород, далее волоком до Днепра и вниз по нему до Киева. На карте река в районе Киева теряется в горах, расположенных южнее, и даже не приближается к Черному морю» [Багров 2005. С. 39].
На Херефордской карте (Hereford, the Cathedral), датируемой примерно 1290 г., псоглавцы (Cinocephales) поселены «между Меотийскими болотами и рекой Корвус» [Чекин 1999. С. 155]: «В этой местности живут кинокефалы. Здесь живут негоднейшие люди грифы. Ведь, кроме всего прочего, они делают себе одежду и седла своим лошадям из кожи врагов» [Чекин 1999. С. 157].
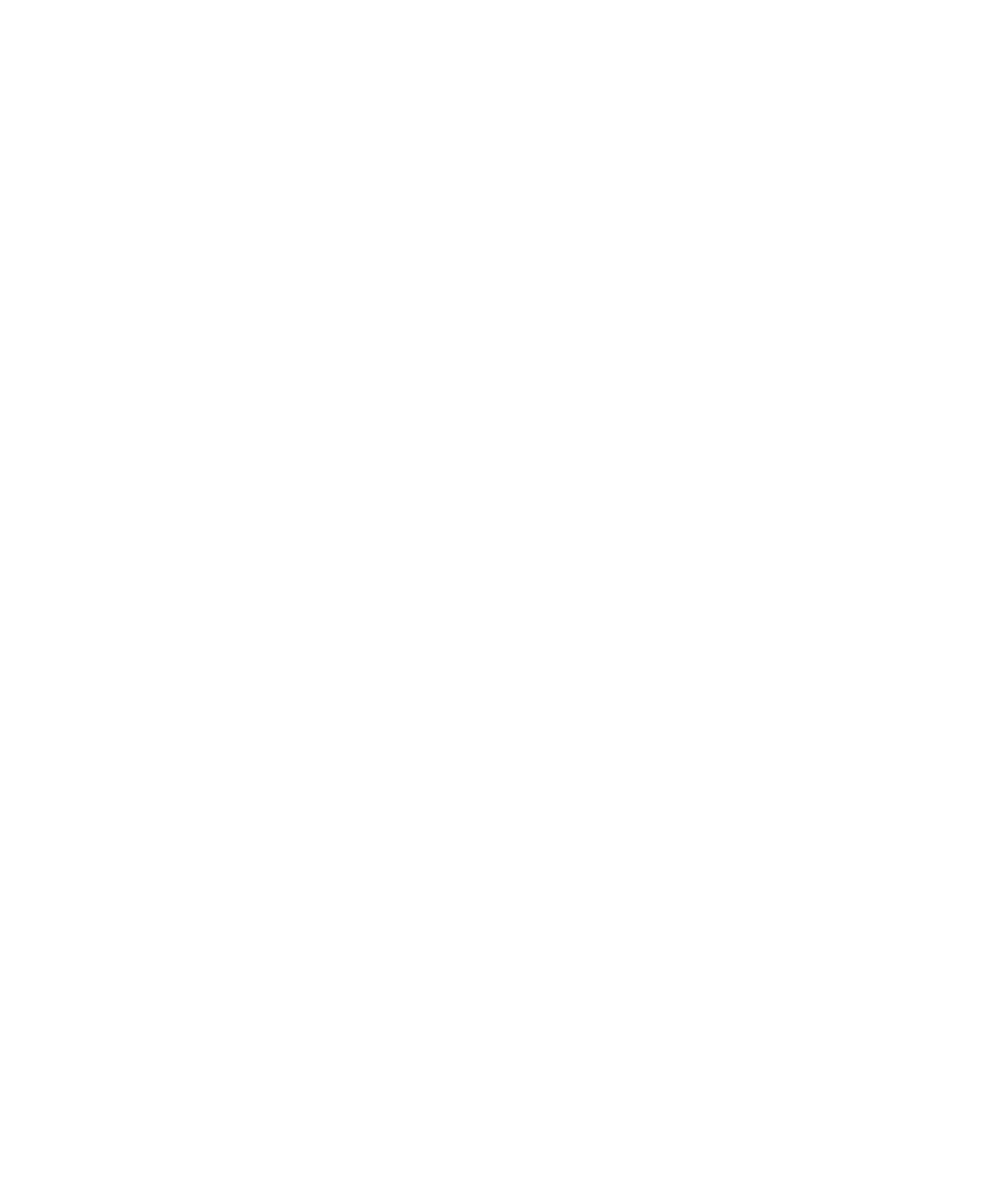
Херефордская карта мира (ок. 1290)
Отдельную группу средневековых сочинений составляют географические трактаты и заметки, содержащие пересказы «античных легенд о людях-монстрах (кинокефалах, пигмеях и др.), почерпнутых у Исидора» [Мельникова 1998. С. 191], а также о чудесах Индии: «прежде всего Индия была страной чудес. Там жили пигмеи, которые сражались с аистами, и великаны, воевавшие с грифонами. Там были „гимнософисты“, которые целый день созерцали солнце, стоя под его палящими лучами сначала на одной, а потом на другой ноге. Там имелись люди со ступнями, повернутыми назад, и с восемью пальцами на каждой ноге; кинокефалы, т.е. люди с собачьими головами и когтями, лающие и рычащие; народ, женщины которого рожают только одного ребенка, при этом всегда беловолосого; племена, у представителей которых в юности волосы белые, но с годами темнеют; люди, которые ложатся на спину и поднимают вверх свою огромную единственную ногу, тем самым спасаясь от солнца (skiapodes); люди, которые насыщаются от одного запаха пищи; безголовые люди, у которых глаза находятся в желудке; лесные люди с волосатыми телами, собачьими клыками и устрашающими голосами; а также множество ужасных зооморфных чудовищ, сочетающих в себе признаки нескольких животных.
Об этих и еще более удивительных чудесах продолжали рассказывать европейские авторы эпохи крестовых походов, когда они писали об Индии и Востоке» [Райт 1988. С. 245, 248].
Отдельную группу средневековых сочинений составляют географические трактаты и заметки, содержащие пересказы «античных легенд о людях-монстрах (кинокефалах, пигмеях и др.), почерпнутых у Исидора» [Мельникова 1998. С. 191], а также о чудесах Индии: «прежде всего Индия была страной чудес. Там жили пигмеи, которые сражались с аистами, и великаны, воевавшие с грифонами. Там были „гимнософисты“, которые целый день созерцали солнце, стоя под его палящими лучами сначала на одной, а потом на другой ноге. Там имелись люди со ступнями, повернутыми назад, и с восемью пальцами на каждой ноге; кинокефалы, т.е. люди с собачьими головами и когтями, лающие и рычащие; народ, женщины которого рожают только одного ребенка, при этом всегда беловолосого; племена, у представителей которых в юности волосы белые, но с годами темнеют; люди, которые ложатся на спину и поднимают вверх свою огромную единственную ногу, тем самым спасаясь от солнца (skiapodes); люди, которые насыщаются от одного запаха пищи; безголовые люди, у которых глаза находятся в желудке; лесные люди с волосатыми телами, собачьими клыками и устрашающими голосами; а также множество ужасных зооморфных чудовищ, сочетающих в себе признаки нескольких животных.
Об этих и еще более удивительных чудесах продолжали рассказывать европейские авторы эпохи крестовых походов, когда они писали об Индии и Востоке» [Райт 1988. С. 245, 248].
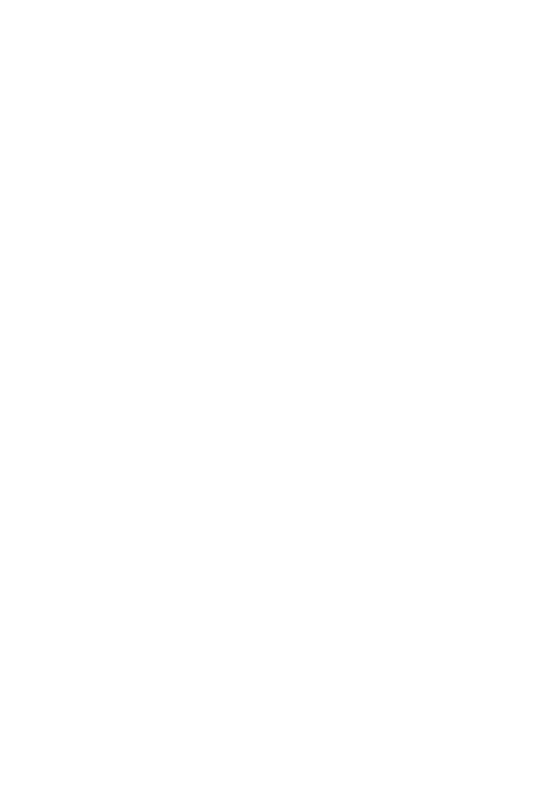
Люди-монстры. Из рукописи втор. пол. XII в. [Мельникова 1998. № 45]
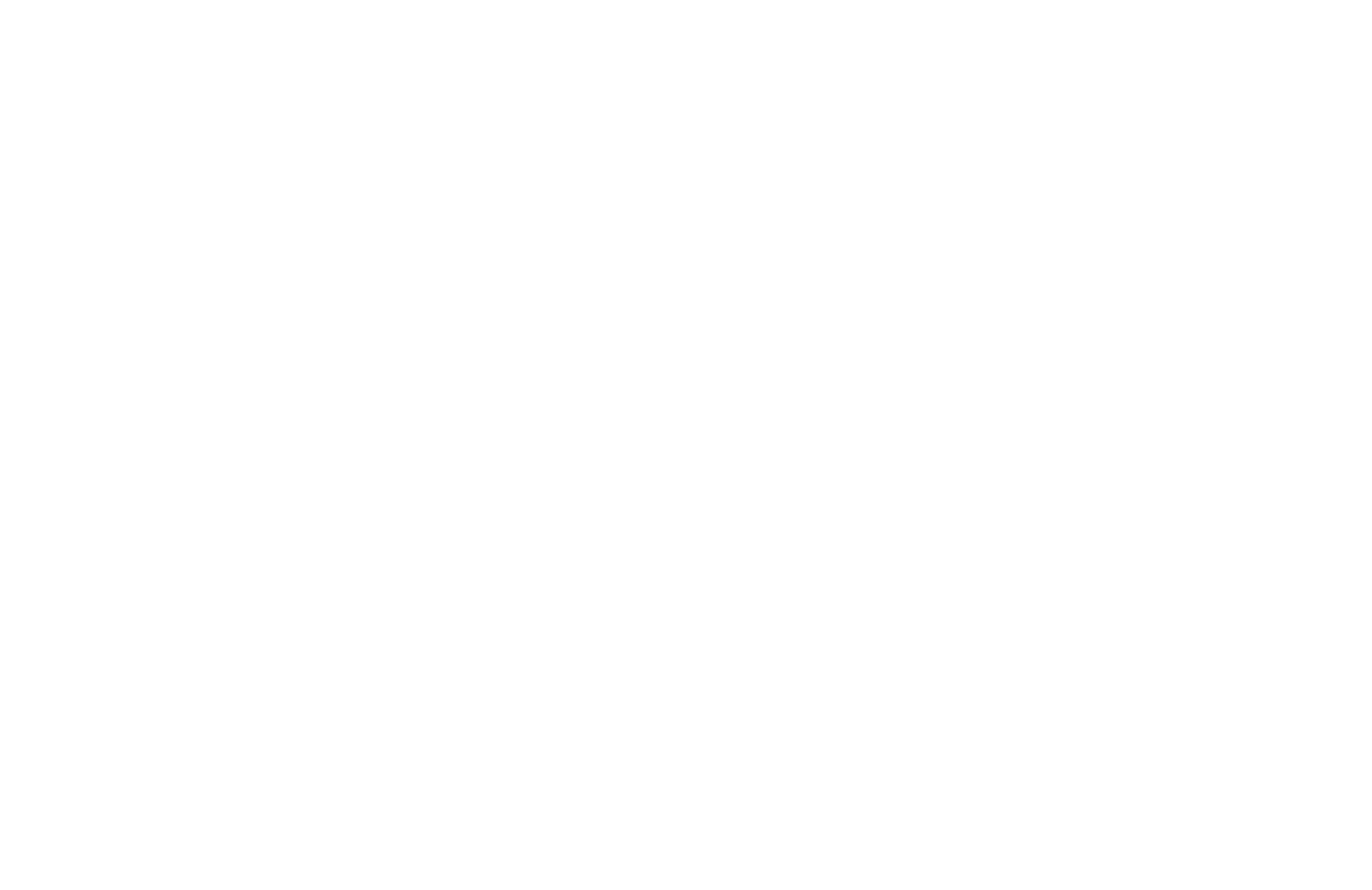
Фрагмент Херефордской карты, иллюстрирующей чудеса Индии. Помимо прочего на фрагменте изображен «тененог» (skiapod), т. е. человек, заслоняющийся от солнца ступней огромной единственной ноги (слева), и кинокефалы, люди с собачьими головами [Райт 1988. С. 246]
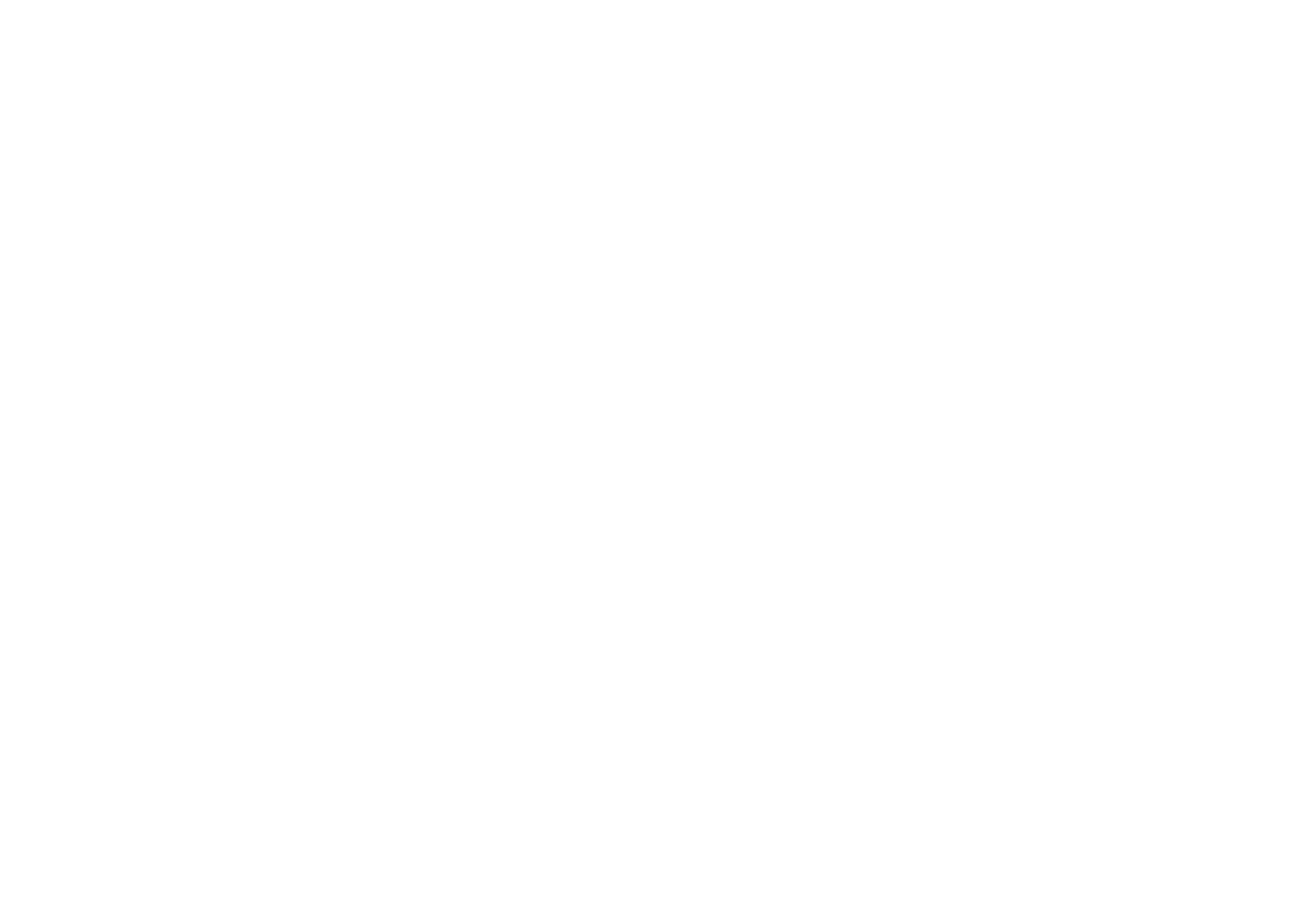
Вымышленные народы, описанные Джоном Мандевиллем
- Анубиса (др.-егип. jnpw) — Бога-покровителя некрополей и бальзамирования, изображавшегося в виде шакала или человека с головой шакала. Энциклопедия «Древний Египет» под редакцией В.В. Солкина сообщает: «Согласно легенде, шакалоголовый бог был сыном Осириса, рожденным богиней Нефтидой (согласно другим версиям — коровой Хесат или даже кошкой Бастет); он забальзамировал тело убитого бога, изобретя процесс мумификации. Вместе с Исидой, Нефтидой и Тотом Анубис омывает тело умершего священной водой, в которой воплощена сила его дочери — богини Кебхут.
Роль Анубиса как сторожа некрополя отразилась в двух его основных эпитетах: неб та джесер — „владыка земли священной“ и хенти сех нечер — „первый из божественного навеса“; второй эпитет указывал также на его связь с помещением, в котором проходила мумификация, и погребальной камерой гробницы. Не менее распространен был и другой титул Анубиса — тепи джу эф — „тот, кто на своем холме“, который подчеркивал роль бога как стража могил, выслеживающего злоумышленников с высоты холмов пустынных некрополей. Образ Анубиса, лежащего на девяти иноземных пленниках, символизирующих зло, издревле изображался на печатях стражи Долины царей, оттиски которых покрывали замурованные входы в гробницы фараонов.
Молитвы, обращенные к Анубису, встречаются уже на стенах гробниц вельмож Древнего царства; в „Текстах пирамид“ он упоминается как защитник умершего (Pyr. 659, 1122 c‒d), исполнитель воли Осириса в мире ином, „оглашающий его приказы“. Часть человеческого тела, ассоциирующаяся с Анубисом, согласно „Текстам пирамид“, — голова.
Особую популярность культ Анубиса приобрел в Новом царстве; бога часто изображали на виньетках к тексту „Книги мертвых“ и на росписях гробниц фараонов и их подданных. Отныне Анубис считался и великим проводником души усопшего в загробном царстве, богом, который подводит умершего к престолу Осириса в великом „Чертоге Двух Истин“. Сохранились изображения жрецов в масках Анубиса, участвующих в той или иной церемонии погребального ритуала. Подобно шакалоголовому богу, повелителю посмертной трансформации, они носили титул хери сешета — „тот, кто над тайной“. Одна такая уникальная маска, снабженная отверстиями для глаз, датируется VI‒IV веками до н.э. и хранится в собрании музея в Хильдесхайме.
Анубис, так же как и Осирис, часто отождествлялся с волком Хентиаментиу — древним богом Абидоса, культ которого позже был вытеснен шакалоголовым богом-хранителем. <...>
В мировоззрении египтян Анубис был тесно связан с самыми различными областями магии. Тексты иногда называют его „покровителем бау“ и уверяют, что под его командованием находятся целые легионы сущностей, которые могут быть как благожелательными, так и агрессивными. Особенно часто имя Анубиса использовалось в ритуалах защиты мага и в предсказаниях. Текст Лейденского демотического папируса указывает, что для получения необходимой информации маг брал бронзовый сосуд с изображенным на нем Анубисом, наполнял его водой и наливал некоторое количество масла, чтобы оно покрыло воду пленкой. Ребенка-медиума клали на четыре кирпича, его голову покрывали тканью. С одной стороны от ребенка маг зажигал светильник, а с другой — курильницу с экзотическими благовониями. Затем он несколько раз нараспев призывал Анубиса, и через какое-то время мальчик начинал видеть в масле картины будущего.
Культ Анубиса процветал во многих городах Верхнего и Нижнего Египта, в особенности в Кинополе и Ассиуте, где он отождествлялся с богом Упуатом. Вместе с египетскими религиозными представлениями культ Анубиса проник и в другие страны Средиземноморского бассейна: на двух этрусских вазах VI века до н.э. изображена человеческая фигура с головой Анубиса, держащая в левой руке большой нож. Образ бога оказал влияние и на коптскую культуру: в коптских песнопениях и поныне существует „волчий глас“, а в коптском музее хранится икона с изображением двух святых с головами шакалов» [ДЕ 2008. С. 40‒41].
- Анубиса (др.-егип. jnpw) — Бога-покровителя некрополей и бальзамирования, изображавшегося в виде шакала или человека с головой шакала. Энциклопедия «Древний Египет» под редакцией В.В. Солкина сообщает: «Согласно легенде, шакалоголовый бог был сыном Осириса, рожденным богиней Нефтидой (согласно другим версиям — коровой Хесат или даже кошкой Бастет); он забальзамировал тело убитого бога, изобретя процесс мумификации. Вместе с Исидой, Нефтидой и Тотом Анубис омывает тело умершего священной водой, в которой воплощена сила его дочери — богини Кебхут.
Роль Анубиса как сторожа некрополя отразилась в двух его основных эпитетах: неб та джесер — „владыка земли священной“ и хенти сех нечер — „первый из божественного навеса“; второй эпитет указывал также на его связь с помещением, в котором проходила мумификация, и погребальной камерой гробницы. Не менее распространен был и другой титул Анубиса — тепи джу эф — „тот, кто на своем холме“, который подчеркивал роль бога как стража могил, выслеживающего злоумышленников с высоты холмов пустынных некрополей. Образ Анубиса, лежащего на девяти иноземных пленниках, символизирующих зло, издревле изображался на печатях стражи Долины царей, оттиски которых покрывали замурованные входы в гробницы фараонов.
Молитвы, обращенные к Анубису, встречаются уже на стенах гробниц вельмож Древнего царства; в „Текстах пирамид“ он упоминается как защитник умершего (Pyr. 659, 1122 c‒d), исполнитель воли Осириса в мире ином, „оглашающий его приказы“. Часть человеческого тела, ассоциирующаяся с Анубисом, согласно „Текстам пирамид“, — голова.
Особую популярность культ Анубиса приобрел в Новом царстве; бога часто изображали на виньетках к тексту „Книги мертвых“ и на росписях гробниц фараонов и их подданных. Отныне Анубис считался и великим проводником души усопшего в загробном царстве, богом, который подводит умершего к престолу Осириса в великом „Чертоге Двух Истин“. Сохранились изображения жрецов в масках Анубиса, участвующих в той или иной церемонии погребального ритуала. Подобно шакалоголовому богу, повелителю посмертной трансформации, они носили титул хери сешета — „тот, кто над тайной“. Одна такая уникальная маска, снабженная отверстиями для глаз, датируется VI‒IV веками до н.э. и хранится в собрании музея в Хильдесхайме.
Анубис, так же как и Осирис, часто отождествлялся с волком Хентиаментиу — древним богом Абидоса, культ которого позже был вытеснен шакалоголовым богом-хранителем. <...>
В мировоззрении египтян Анубис был тесно связан с самыми различными областями магии. Тексты иногда называют его „покровителем бау“ и уверяют, что под его командованием находятся целые легионы сущностей, которые могут быть как благожелательными, так и агрессивными. Особенно часто имя Анубиса использовалось в ритуалах защиты мага и в предсказаниях. Текст Лейденского демотического папируса указывает, что для получения необходимой информации маг брал бронзовый сосуд с изображенным на нем Анубисом, наполнял его водой и наливал некоторое количество масла, чтобы оно покрыло воду пленкой. Ребенка-медиума клали на четыре кирпича, его голову покрывали тканью. С одной стороны от ребенка маг зажигал светильник, а с другой — курильницу с экзотическими благовониями. Затем он несколько раз нараспев призывал Анубиса, и через какое-то время мальчик начинал видеть в масле картины будущего.
Культ Анубиса процветал во многих городах Верхнего и Нижнего Египта, в особенности в Кинополе и Ассиуте, где он отождествлялся с богом Упуатом. Вместе с египетскими религиозными представлениями культ Анубиса проник и в другие страны Средиземноморского бассейна: на двух этрусских вазах VI века до н.э. изображена человеческая фигура с головой Анубиса, держащая в левой руке большой нож. Образ бога оказал влияние и на коптскую культуру: в коптских песнопениях и поныне существует „волчий глас“, а в коптском музее хранится икона с изображением двух святых с головами шакалов» [ДЕ 2008. С. 40‒41].
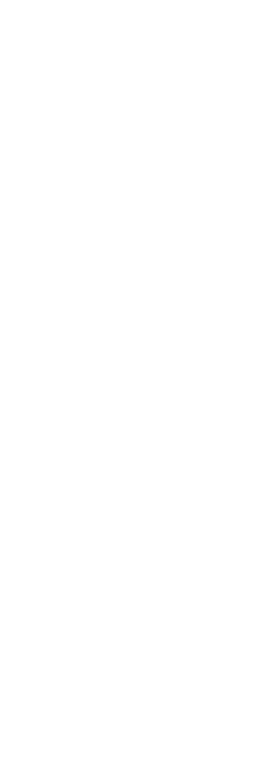
Святые Ахракас и Аугани — двое святых с собачьей головой описаны в житии коптского святого Меркурия Абу-Сефейна, которому они верно служили и везде сопровождали, их изображения запечатлены на иконе XVIII в., хранящейся в Коптском музее.
- Упуата (др.-егип. wp-wꜢw.t) — Бога-открывателя путей: «Древний бог Упуат, почитавшийся в облике волка или дикой собаки, известен уже по изображениям на „палетке Нармера“ (IV тыс. до н.э.). Культ этого божества процветал в среднеегипетском городе Ассиуте, который в греко-римский период был назвал Ликополем — „Волчьим градом“. Упуат изображался в виде шакалоподобной собаки, стоящей на штандарте нома [греческое и, позднее, римское название административной единицы в Древнем Египте, утвердившееся с эллинистического периода и также применяемое в науке к более древним эпохам истории Египта, — прим. В.], либо как человек с собачьей головой. Упуат, „Открывающий пути“ — бог-проводник, разведчик. Он открывает дороги фараону, идущему в завоевательный поход, вводит царя в храм, дарует знание тайных троп, приносит исполнение желаний, оберегает караваны и путников; его эпитет — „ведущий“. Согласно текстам, Упуат был проводником группы божеств, которая в легендарные времена, когда на земле правили боги и полубоги — „спутники Хора“, сопровождала соколиного бога из Нехена, отождествляемого с Хором, во время его похода на Нижний Египет.
Фигурка Упуата, укрепленная на носу церемониальных ладей богов, открывала им пространства так же, как самой солнечной ладье, на носу которой всегда стоит „Открывающий пути“. Иногда даже такие могущественные божества, как владыка магии и письма Тот, надевают на ноги особые магические сандалии, снабженные изображениями голов волка — священного животного Упуата, — для того чтобы преодолеть все препятствия на своем пути, узнать все тропы мира иного. Одна сандалия открывает перед ее обладателем все дороги юга, а другая, соответственно, все дороги севера.
Штандарт Упуата всегда выносили из дворца перед выходом фараона. Согласно рельефам храма Сети I в Абидосе, штандарты божества различались по сторонам света: на „южном“ штандарте Упуата дикая собака стоит на вытянутых лапах, тогда как на „северном“ штандарте лежит в позе, более характерной для Анубиса.
В „Текстах пирамид“ Упуат играет значительную роль в знаменитой церемонии „отверзания уст и очей“, является проводником умершего царя в потустороннем мире. Как и к Анубису, к Упуату часто обращались родственники умершего с молитвой о покровительстве покойному в потустороннем мире.
В Абидосе Упуат был тесно связан с культом Осириса, иногда считаясь его сыном. Он играл очень большую роль в абидосских мистериях, своей значимостью порой превосходя даже Исиду и Хора. Упуату был посвящен один из важнейших этапов празднества Осириса — церемония, называвшаяся перет тепит, „первый выход“, или перет Упуат, „выход Упуата“. Бог Упуат как воплощение Анубиса и одновременно Хора Неджитефа — „Хора защитника отца своего“ — выходил из храма, чтобы повергнуть врагов, препятствующих воссоединению из частей и бальзамированию тела Осириса. Именно в облике Упуата участвовал в абидосских мистериях фараон или заменявшие его вельможи, получавшие во время празднества титул са-мериэф — „сын его [Осириса] возлюбленный“.
Упуат, связанный с древнейшими египетскими представлениями о царской власти, нередко отождествлялся с другим собакоголовым божеством по имени Сед, который также часто изображался в виде собаки, стоящей на штандарте нома. К сожалению, о культе этого божества, в честь которого было названо празднество царского юбилея хеб сед, нам практически ничего не известно» [ДЕ 2008. С. 368‒369].
- Упуата (др.-егип. wp-wꜢw.t) — Бога-открывателя путей: «Древний бог Упуат, почитавшийся в облике волка или дикой собаки, известен уже по изображениям на „палетке Нармера“ (IV тыс. до н.э.). Культ этого божества процветал в среднеегипетском городе Ассиуте, который в греко-римский период был назвал Ликополем — „Волчьим градом“. Упуат изображался в виде шакалоподобной собаки, стоящей на штандарте нома [греческое и, позднее, римское название административной единицы в Древнем Египте, утвердившееся с эллинистического периода и также применяемое в науке к более древним эпохам истории Египта, — прим. В.], либо как человек с собачьей головой. Упуат, „Открывающий пути“ — бог-проводник, разведчик. Он открывает дороги фараону, идущему в завоевательный поход, вводит царя в храм, дарует знание тайных троп, приносит исполнение желаний, оберегает караваны и путников; его эпитет — „ведущий“. Согласно текстам, Упуат был проводником группы божеств, которая в легендарные времена, когда на земле правили боги и полубоги — „спутники Хора“, сопровождала соколиного бога из Нехена, отождествляемого с Хором, во время его похода на Нижний Египет.
Фигурка Упуата, укрепленная на носу церемониальных ладей богов, открывала им пространства так же, как самой солнечной ладье, на носу которой всегда стоит „Открывающий пути“. Иногда даже такие могущественные божества, как владыка магии и письма Тот, надевают на ноги особые магические сандалии, снабженные изображениями голов волка — священного животного Упуата, — для того чтобы преодолеть все препятствия на своем пути, узнать все тропы мира иного. Одна сандалия открывает перед ее обладателем все дороги юга, а другая, соответственно, все дороги севера.
Штандарт Упуата всегда выносили из дворца перед выходом фараона. Согласно рельефам храма Сети I в Абидосе, штандарты божества различались по сторонам света: на „южном“ штандарте Упуата дикая собака стоит на вытянутых лапах, тогда как на „северном“ штандарте лежит в позе, более характерной для Анубиса.
В „Текстах пирамид“ Упуат играет значительную роль в знаменитой церемонии „отверзания уст и очей“, является проводником умершего царя в потустороннем мире. Как и к Анубису, к Упуату часто обращались родственники умершего с молитвой о покровительстве покойному в потустороннем мире.
В Абидосе Упуат был тесно связан с культом Осириса, иногда считаясь его сыном. Он играл очень большую роль в абидосских мистериях, своей значимостью порой превосходя даже Исиду и Хора. Упуату был посвящен один из важнейших этапов празднества Осириса — церемония, называвшаяся перет тепит, „первый выход“, или перет Упуат, „выход Упуата“. Бог Упуат как воплощение Анубиса и одновременно Хора Неджитефа — „Хора защитника отца своего“ — выходил из храма, чтобы повергнуть врагов, препятствующих воссоединению из частей и бальзамированию тела Осириса. Именно в облике Упуата участвовал в абидосских мистериях фараон или заменявшие его вельможи, получавшие во время празднества титул са-мериэф — „сын его [Осириса] возлюбленный“.
Упуат, связанный с древнейшими египетскими представлениями о царской власти, нередко отождествлялся с другим собакоголовым божеством по имени Сед, который также часто изображался в виде собаки, стоящей на штандарте нома. К сожалению, о культе этого божества, в честь которого было названо празднество царского юбилея хеб сед, нам практически ничего не известно» [ДЕ 2008. С. 368‒369].

Дейр эль-Медина. Март 2017 г. (из архива автора)

Дейр эль-Медина. Март 2017 г. (из архива автора)
А[нубис] играет значительную роль в погребальном ритуале, его имя упоминается во всей заупокойной египетской литературе, согласно которой одной из важнейших функций А[нубиса] была подготовка тела покойного к бальзамированию и превращению его в мумию (эпитеты „ут“ и „имиут“ определяют А[нубиса] как бога бальзамирования). А[нубису] приписывается возложение на мумию рук и превращение покойника с помощью магии в ах („просветлённого“, „блаженного“), оживающего благодаря этому жесту; А[нубис] расставляет вокруг умершего в погребальной камере Гора детей и даёт каждому канопу с внутренностями покойного для их охраны. А[нубис] тесно связан с некрополем в Фивах, на печати которого изображался лежащий над девятью пленниками шакал. А[нубис] считался братом бога Баты, что отразилось в сказке о двух братьях. По Плутарху, А[нубис] был сыном Осириса и Нефтиды. Древние греки отождествляли А[нубиса] с Гермесом» [Рубинштейн 1980. С. 89].
«УПУÁТ, Вепуáт (wp-wꜢw.t, „открыватель путей“), в египетской мифологии бог в образе волка. Центр его культа — город Сиут (греч. Ликополь, „волчий город“). От Сиута начинался крупный караванный путь, и У[пуат] почитался как бог-проводник, разведчик. Его эпитет — „вожатый“ („ведущий“). У[пуат] — воинственное божество, его атрибуты — булава и лук. Имел также функции покровителя умерших, его называли „первый боец Осириса“ и иногда отождествляли с ним. У[пуат]-волк часто отождествлялся с шакалом Анубисом. Штандарты с атрибутами и изображениями У[пуата] выносили перед выходом фараона, несли во главе процессии во время мистерий Осириса в Абидосе» [Рубинштейн 1982. С. 549].
А[нубис] играет значительную роль в погребальном ритуале, его имя упоминается во всей заупокойной египетской литературе, согласно которой одной из важнейших функций А[нубиса] была подготовка тела покойного к бальзамированию и превращению его в мумию (эпитеты „ут“ и „имиут“ определяют А[нубиса] как бога бальзамирования). А[нубису] приписывается возложение на мумию рук и превращение покойника с помощью магии в ах („просветлённого“, „блаженного“), оживающего благодаря этому жесту; А[нубис] расставляет вокруг умершего в погребальной камере Гора детей и даёт каждому канопу с внутренностями покойного для их охраны. А[нубис] тесно связан с некрополем в Фивах, на печати которого изображался лежащий над девятью пленниками шакал. А[нубис] считался братом бога Баты, что отразилось в сказке о двух братьях. По Плутарху, А[нубис] был сыном Осириса и Нефтиды. Древние греки отождествляли А[нубиса] с Гермесом» [Рубинштейн 1980. С. 89].
«УПУÁТ, Вепуáт (wp-wꜢw.t, „открыватель путей“), в египетской мифологии бог в образе волка. Центр его культа — город Сиут (греч. Ликополь, „волчий город“). От Сиута начинался крупный караванный путь, и У[пуат] почитался как бог-проводник, разведчик. Его эпитет — „вожатый“ („ведущий“). У[пуат] — воинственное божество, его атрибуты — булава и лук. Имел также функции покровителя умерших, его называли „первый боец Осириса“ и иногда отождествляли с ним. У[пуат]-волк часто отождествлялся с шакалом Анубисом. Штандарты с атрибутами и изображениями У[пуата] выносили перед выходом фараона, несли во главе процессии во время мистерий Осириса в Абидосе» [Рубинштейн 1982. С. 549].
Древнеегипетские мифы «дают ценный материал и для сравнительного изучения религиозных представлений различных времен и народов вообще, и для истории возникновения и развития христианства в частности. Происхождение многих элементов христианской догматики, мифологии, иконографии и ритуала, в том числе пасхальной и рождественской обрядности, иконографии страшного суда, богоматери и ряда святых — все это осталось бы непонятным без привлечения соответствующего материала из области египетской религии» [Матье 1940. С. 3]. И далее: «Возникнув в отдаленнейшие времена, они [сказания о битвах и победах солнечных богов Египта] жили в долине Нила до последних веков существования египетской религии. Об этом свидетельствуют нам тексты греко-римского времени, и образ солнца — победоносного воина, сначала пешего, а позднее всадника, впоследствии в сильнейшей степени повлиял и мифологически, и иконографически на создание в христианском Египте многочисленных культов святых всадников-победоносцев, Сисинния, Фиваммона, Феодора и других» [Матье 1940. С. 30].
Древнеегипетские мифы «дают ценный материал и для сравнительного изучения религиозных представлений различных времен и народов вообще, и для истории возникновения и развития христианства в частности. Происхождение многих элементов христианской догматики, мифологии, иконографии и ритуала, в том числе пасхальной и рождественской обрядности, иконографии страшного суда, богоматери и ряда святых — все это осталось бы непонятным без привлечения соответствующего материала из области египетской религии» [Матье 1940. С. 3]. И далее: «Возникнув в отдаленнейшие времена, они [сказания о битвах и победах солнечных богов Египта] жили в долине Нила до последних веков существования египетской религии. Об этом свидетельствуют нам тексты греко-римского времени, и образ солнца — победоносного воина, сначала пешего, а позднее всадника, впоследствии в сильнейшей степени повлиял и мифологически, и иконографически на создание в христианском Египте многочисленных культов святых всадников-победоносцев, Сисинния, Фиваммона, Феодора и других» [Матье 1940. С. 30].
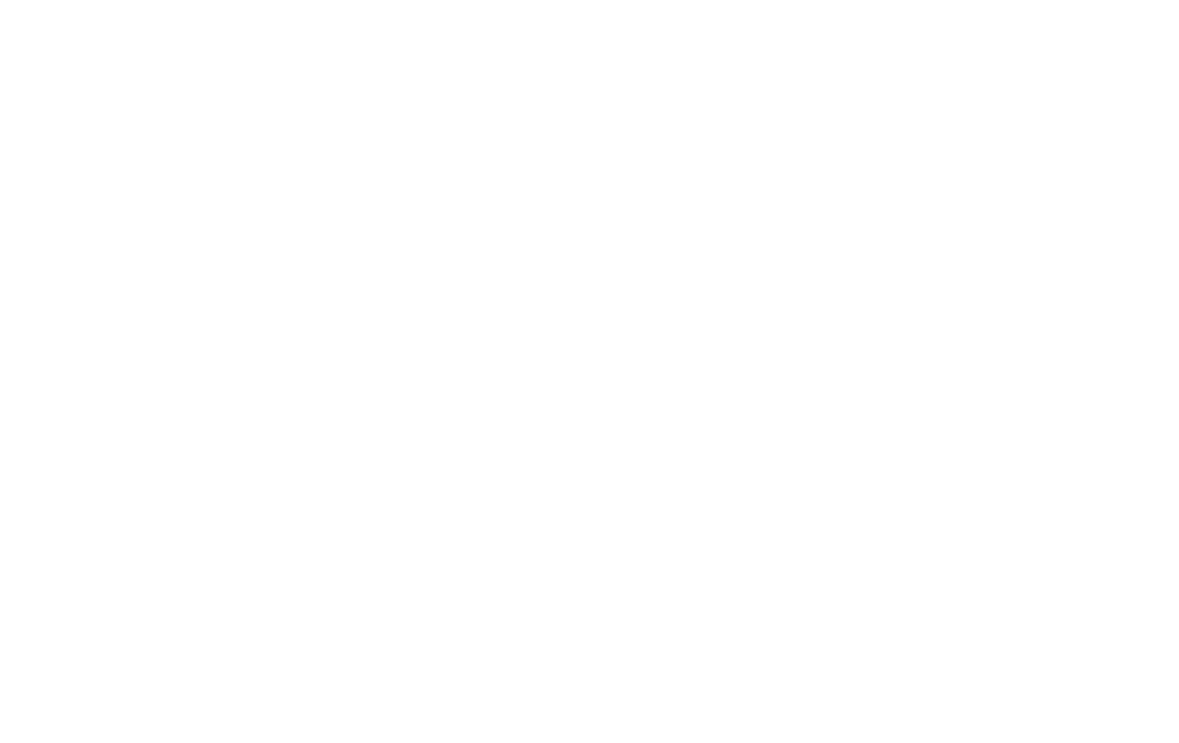
Хор поражает Сетха в образе крокодила. IV в. Лувр [Матье 1940. С. 64]. Рядом для сравнения — христианская икона Георгия Победоносца
Второй этап связан с теми изменениями, которые происходили в иконографии Сета-змееборца в Поздний и греко-римский периоды египетской истории. Эти изменения, в свою очередь, были связаны с процессом демонизации образа Сета, начавшейся после эпохи Нового царства, что было сопряжено с развитием мифа об Осирисе, в котором Сету отводилась роль его убийцы. Но, несмотря на это, Сет продолжает почитаться как защитник солнца и змееборец на периферийных территориях Египта — в оазисах Западной пустыни Харга и Дахла, но уже как бог с соколиными чертами, поскольку „Сетово“ животное повсеместно табуируется. При этом, начиная с Позднего периода, в оазисах становится особенно востребован иконографический сюжет о повержении врага копьем, будь то змей или человек. Один из самых известных рельефов, где представлена сцена повержения Апопа сокологоловым Сетом, находится в храме Амона в Хибисе в оазисе Харга и относится ко времени правления Дария I.
Второй этап связан с теми изменениями, которые происходили в иконографии Сета-змееборца в Поздний и греко-римский периоды египетской истории. Эти изменения, в свою очередь, были связаны с процессом демонизации образа Сета, начавшейся после эпохи Нового царства, что было сопряжено с развитием мифа об Осирисе, в котором Сету отводилась роль его убийцы. Но, несмотря на это, Сет продолжает почитаться как защитник солнца и змееборец на периферийных территориях Египта — в оазисах Западной пустыни Харга и Дахла, но уже как бог с соколиными чертами, поскольку „Сетово“ животное повсеместно табуируется. При этом, начиная с Позднего периода, в оазисах становится особенно востребован иконографический сюжет о повержении врага копьем, будь то змей или человек. Один из самых известных рельефов, где представлена сцена повержения Апопа сокологоловым Сетом, находится в храме Амона в Хибисе в оазисе Харга и относится ко времени правления Дария I.
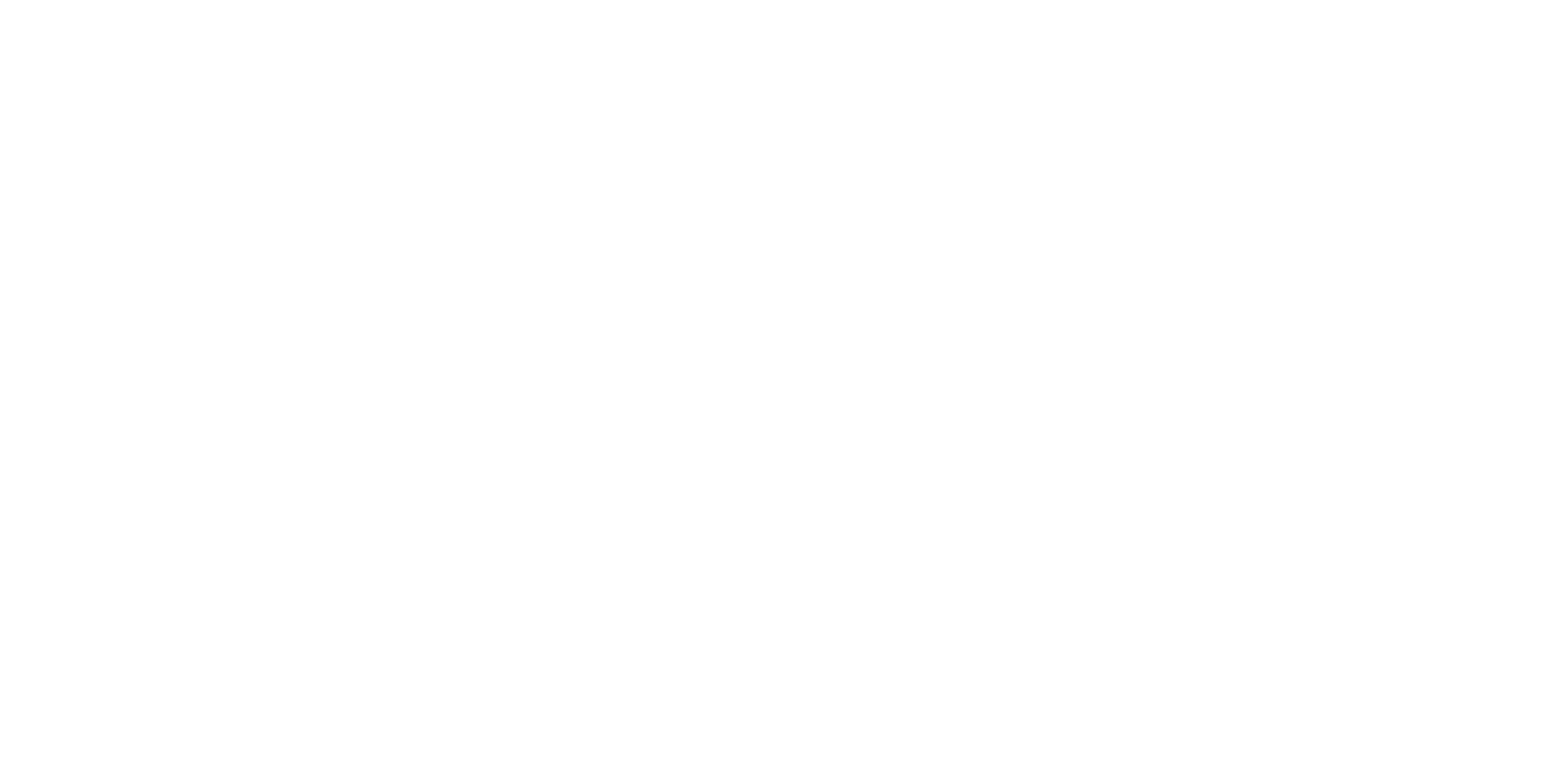
Фрагмент (и его прорисовка) из храма в Хибисе с изображением Сетха/Сета, пронзающего копьём змея Апопа. Египет, оазис Харга [Карлова 2020. С. 1217]
При этом вплоть до позднего римского периода представления о Сете как о противнике змея сохраняются. Самый поздний по времени и необычайно примечательный пример изображения Сета, пронзающего копьем змея, относится к IV в. н.э. В месте Айн-Турба, располагающемся в оазисе Харга и являющимся частью древнего города в Хибисе, на одном из рельефов частного римского дома были изображены три фигуры всадника с копьем: первый — в образе человека, второй — с головой Сета и солнечным диском над ней, третий — с головой сокола и с крыльями, в двойной короне, а под этими фигурами помещено изображение змея. Все три фигуры могут являться воплощением Сета, что вполне возможно ввиду традиции изображения Сета в оазисах с головой сокола и в двойной короне. По другой возможной трактовке три фигуры змееборцев могут представлять разных персонажей. Примечательно, что из трех фигур только центральная фигура с головой Сета увенчана солнечным диском, что восходит к достаточно давней традиции. Сет сохраняет свою прерогативу защитника солнечного бога от змея, и эта ипостась остается определяющей в контексте его почитания в оазисах в римское время. Изображение крыльев, которые являлись обязательным атрибутом богов-копьеносцев в оазисах, сохраняется только у фигуры сокологолового всадника. Важнейшая деталь этой фрески заключается в том, что впервые в египетской традиции фиксируется изображение всадника-мужчины, пронзающего копьем змея. Очевидно, что в данном случае прослеживается римское влияние, поскольку в Египте змееборец никогда не изображался в виде человека, сидящего на коне. Таким образом, фреска из Айн-Турбы демонстрирует три хронологических этапа развития иконографического типа древнеегипетского змееборца — Сет, сокологоловый бог и человек. Образ всадника был привнесен римлянами, но традиционный египетский сюжет о повержении змея оказался востребованным в римской среде, через которую, трансформировавшись, он получил дальнейшее распространение» [Карлова 2020. С. 1216‒1220].
При этом вплоть до позднего римского периода представления о Сете как о противнике змея сохраняются. Самый поздний по времени и необычайно примечательный пример изображения Сета, пронзающего копьем змея, относится к IV в. н.э. В месте Айн-Турба, располагающемся в оазисе Харга и являющимся частью древнего города в Хибисе, на одном из рельефов частного римского дома были изображены три фигуры всадника с копьем: первый — в образе человека, второй — с головой Сета и солнечным диском над ней, третий — с головой сокола и с крыльями, в двойной короне, а под этими фигурами помещено изображение змея. Все три фигуры могут являться воплощением Сета, что вполне возможно ввиду традиции изображения Сета в оазисах с головой сокола и в двойной короне. По другой возможной трактовке три фигуры змееборцев могут представлять разных персонажей. Примечательно, что из трех фигур только центральная фигура с головой Сета увенчана солнечным диском, что восходит к достаточно давней традиции. Сет сохраняет свою прерогативу защитника солнечного бога от змея, и эта ипостась остается определяющей в контексте его почитания в оазисах в римское время. Изображение крыльев, которые являлись обязательным атрибутом богов-копьеносцев в оазисах, сохраняется только у фигуры сокологолового всадника. Важнейшая деталь этой фрески заключается в том, что впервые в египетской традиции фиксируется изображение всадника-мужчины, пронзающего копьем змея. Очевидно, что в данном случае прослеживается римское влияние, поскольку в Египте змееборец никогда не изображался в виде человека, сидящего на коне. Таким образом, фреска из Айн-Турбы демонстрирует три хронологических этапа развития иконографического типа древнеегипетского змееборца — Сет, сокологоловый бог и человек. Образ всадника был привнесен римлянами, но традиционный египетский сюжет о повержении змея оказался востребованным в римской среде, через которую, трансформировавшись, он получил дальнейшее распространение» [Карлова 2020. С. 1216‒1220].
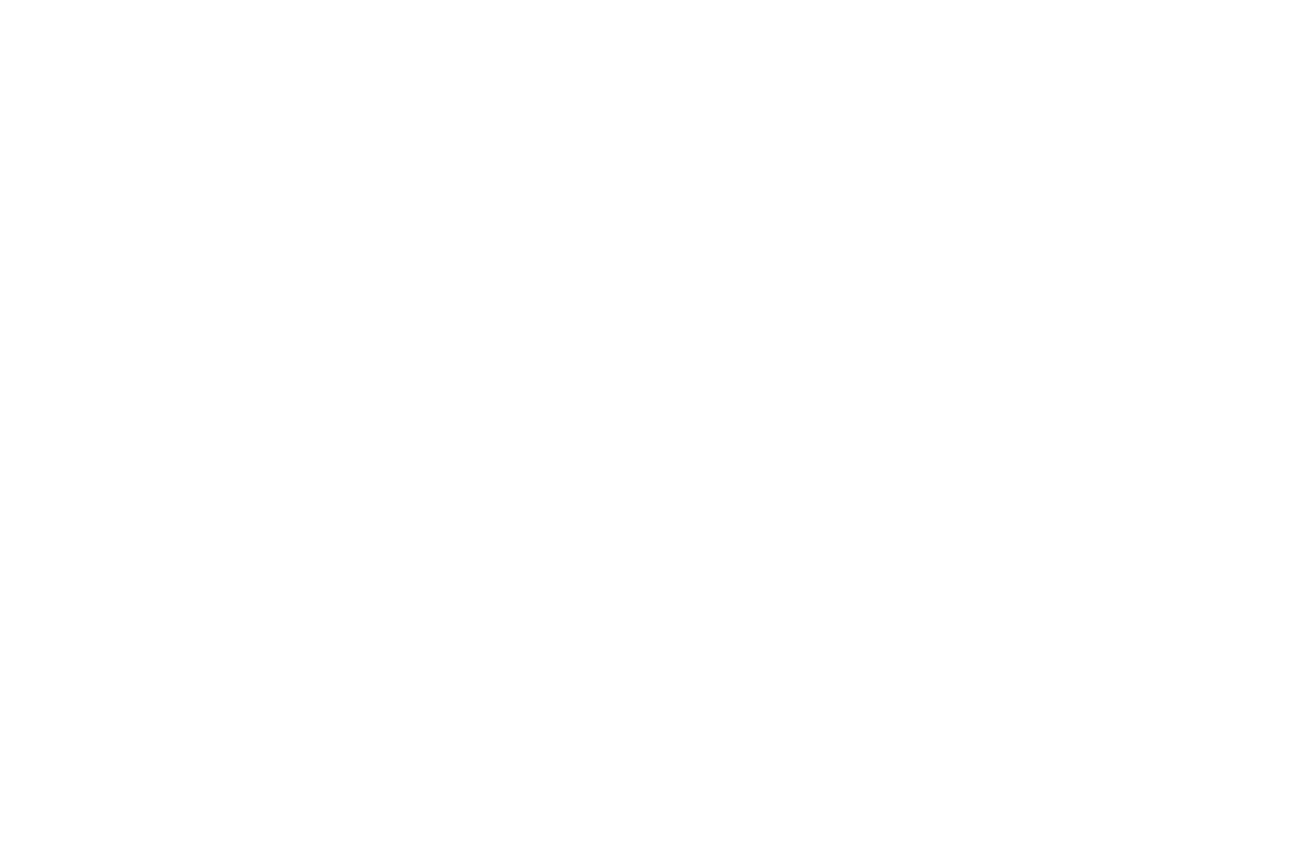
Прорисовка фрески с тремя всадниками-змееборцами из Айн-Турбы. Египет, оазис Харга [Карлова 2020. С. 1220]
Вы очень порадовали меня, когда вспомнили о нашей просьбе и написали нам все то, что Вы смогли выяснить касательно природы кинокефалов. Что же до того, что я ничего не ответил Вам на Ваши вопросы, знайте: это произошло вовсе не из-за лени и не по небрежению, а потому, что ответ не с кем было переслать. Сейчас наконец такая возможность предоставилась благодаря брату Сарварду, который заехал к нам, а к вам направляется, и мы взялись кратко изложить то, что думаем об интересующем Вас предмете. Вы спрашиваете, как должно судить о кинокефалах: происходят ли они от семени Адамова или же в них звериная душа? В общем и целом по этому вопросу можно вынести такое суждение: если их следует относить к человеческому роду, то ни у кого не может возникнуть сомнений, что они являются потомками первого человека. Ибо нельзя допустить, чтобы человеческое существо происходило откуда-либо еще, нежели как от плоти прародителя. Если же они причисляются к роду звериному, тогда они сходны с человеком лишь внешне, а не по природе. При этом нужно иметь в виду, что если мы доверимся мнению наших, то есть учителей церкви, то кинокефалов следует относить скорее к животным, нежели к людям, постольку поскольку и устройство головы, и издаваемый ими собачий лай выдают в них не людей, а зверей. Действительно, людям свойственно иметь круглую голову и смотреть в небеса, собакам же — вытянутую, с опущенным вниз носом и глядеть в землю. Люди говорят, а собаки лают. Однако в посланиях, отправленных нам Вашей милостью, где сообщаются более точные сведения о природе кинокефалов, описано кое-что такое, что, как кажется, скорее соответствует человеческому разуму, а не животным инстинктам: что они соблюдают некие общественные предписания; что у них имеются поселения; что они занимаются земледелием (это следует из того, что они собирают урожай); что они из благопристойности прикрывают стыд, подобно людям, а не открывают его, подобно животным (это есть указание на чувство стыдливости); что, как Вы пишете, они пользуются для этого не только шкурами, но и одеждой — все это некоторым образом свидетельствует в пользу наличия у них разумной души. Ибо считается, что человеческое общество — это собрание людей, которые все живут по одним законам. А коль скоро о кинокефалах говорят, что они обитают совместно в неких селениях, то, как представляется, будет правильным применить к ним определение человеческого общества. Ведь их сообщество достаточно многочисленно, а кроме того, они не могли бы существовать, не будь у них тех или иных законов. А где соблюдают какой-нибудь закон, там он поддерживается и общим согласием, потому что ни один закон не может действовать, не будучи установлен по общему согласию. И никогда не бывало такого, чтобы закон вводили и следовали ему, не обладая понятием о нравственности. Да и само то, что они возделывают поля — взрывают борозды, отдают семя в рост земле, указывает на искушенность в ремеслах. Такой искушенности, как известно, могут достичь только лишь существа, наделенные разумом. Ибо изыскивать причины явлений, например: что делает почвы плодородными, как добиться изобильного урожая, – есть свойство разума. А без знания этих вещей никогда не удавалось с пользой практиковать земледелие. Далее, умение изготовлять одежду, будь то из шкур, из шерсти или изо льна, есть признак разумной души. Ибо все это доступно лишь тем, кто обладает некоторыми ремесленными навыками, знание же ремесел даровано одной только разумной душе. Вот и то, что они прикрывают стыд, есть показатель чувства достоинства; этого можно ожидать лишь от того, кто наделен способностью различать между позорным и достойным. Ибо никто не может гореть от позора, если у него нет понятия о достоинстве. Итак, все перечисленное присуще разумной душе, и это станет отрицать лишь безумец. Только разум, дающий возможность выносить суждения, и талант, развитый до высокой степени, позволяют различать достойное и позорное, способствуют овладению ремеслами, помогают устанавливать законы, ведущие к миру и взаимному согласию. Поэтому, если Вы говорите, что перечисленное обнаруживается у кинокефалов, то тем самым Вы свидетельствуете о наличии у них разумной души. Ибо единственное, что отличает человека от животных, — это разум. А так как последний, по-видимому, имеется у тех, кого мы обсуждаем, то их следует скорее относить к людям, нежели к животным.
Пониманию этого явления немало способствует книга о мученичестве святого Христофора. Ведь, как в ней сказано, Христофор происходил как раз из этого рода людей; при этом достоверно известно, что своей жизнью и мученической кончиной он дал совершенно явные свидетельства своих добродетелей. Ибо, как написано в этой книге, его окутало загадочное облако, и на него свыше снизошло таинство крещения. Кроме того, летучая молва доносит многое, что, как кажется, подтверждает наличие разума у людей из этого самого племени. Так, Исидор в „Этимологиях“, повествуя о разнообразных чудовищах, которые вышли из человеческого рода, среди прочего пишет следующее: „Подобно тому как в каждом человеческом сообществе появляются уродцы, так и весь человеческий род в целом произвел племена чудовищ, например гигантов, кинокефалов, циклопов и другие“ [XI.3.12]. Этими словами он дал ясное указание, что, по его суждению, кинокефалы ведут свое происхождение от семени первого человека. Ибо в каждом человеческом сообществе рождаются на свет существа, на первый взгляд, устроенные наперекор законам природы, как-то: двухголовые, трехрукие, карлики, гермафродиты (или андрогины) и многие другие. Однако поскольку они появляются промыслом Всевышнего, то это уже не наперекор законам природы, ведь законы природы — это и есть промысел Божества. Точно так же и перечисленные выше создания — те чудовища из рода людского, которые представляют собой некие знамения, — а также прочие, перечислять коих из-за их многочисленности слишком долго: пигмеи, что ростом с локоть; антиподы, у которых ступни ног смотрят назад и на каждой из них по восемь пальцев; гиппоподы с телом как у человека, но с лошадиными ногами; макробии, почти вдвое превосходящие ростом обычных людей; те индийские женщины, что беременеют в пять лет, а живут — не больше восьми, и многие другие, в чье существование почти невозможно поверить, — все они являются племенами чудовищ, порожденными сообществом обычных людей, то есть всем человеческим родом в целом. И хотя пишут, что они ведут свое происхождение от человеческого рода, однако никто вследствие этого или просто так не утверждает, что сии люди наделены разумом. Что же касается гигантов, коих относят к числу этих чудовищ, то едва ли кто-нибудь усомнится в том, что это были люди, рожденные людьми, ведь, как нам хорошо известно, надежное свидетельство этому дает Священное писание [Быт. 6: 4. Вульгата: gigantes autem erant super terram in diebus illis postquam enim ingressi sunt flii Dei ad flias hominum illaeque genuerunt isti sunt potentes a saeculo viri famosi. Русский синодальный перевод: „В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди“. — Прим. В.В. Рыбакова]. Коль скоро кинокефалов следует относить к таким же существам, то и о них нужно думать то же самое, особенно если действительно правда все то, что написано о святом Христофоре, и то, что разносит о них летучая молва. Однако же, говоря или рассуждая так, нельзя сделать вывод, что всякое существо, рожденное от человека, также будет человеком и окажется наделено сокровищем человеческого разума. Пишут же, например, что случалось женщине родить звереныша или змею, но из этого я не заключу, что у такого звереныша или у такой змеи была человеческая душа, то есть душа разумная. А это чудовище, которое принесла одна женщина во времена царя Александра [Македонского]? Верхняя часть тела у него была человечья, а нижняя по виду напоминала части тела различных животных. Полагаю, что едва ли когда-либо кто-либо, если он в своем уме, согласится признать, что эти животины, хотя и произошли от семени человека, были наделены разумной душой. Вот почему — если бы меня не склоняло к этому мнению как то, что Вы пишете о кинокефалах, так и то, что я читал и слышал о них, — я бы не поверил, что, поскольку те, о ком идет речь, ведут свое происхождение от людей, постольку они имеют разумную душу. Однако теперь, получив столь важные и убедительные свидетельства о данном предмете, я думаю, что будет скорее упрямством, нежели благоразумием не доверять им или отыскивать аргументы против. Кроме того, как становится ясно из Вашего письма, у кинокефалов имеются все те виды домашних животных, которые держат в нашей полосе. Я ником образом не могу допустить возможность этого, если у них звериная, а не разумная душа, ибо, как нам известно из книги Бытия, именно человеку сам Господь дал во владение прочих скотов земных. А чтобы одни животные взращивали других (тем более домашних!), заботились о них, заставляли их себе подчиняться и использовали бы их для своих целей — дело неслыханное и невероятное. Так что, коль скоро кинокефалы держат множество домашних животных, то с этим никак не вяжется звериная дикость — ведь домашних животных приручает только доброта.
Вот то, что, по моему мнению, надлежит думать о кинокефалах. Впрочем, будет ли угодно и другим думать так же, или же иначе — не наше дело. А что касается книги святого Климента, о которой Вы спрашиваете, то ее не относят к Священному преданию, хотя и не отвергают полностью. Дело в том, что в ней написано кое-что такое, что не полностью соответствует нашей, то есть церковной догме. Однако же то, что в ней говорится о деяниях апостола Петра, принимается, так как в этом нет ничего, что бы не отвечало или противоречило христианскому учению.
Желаем твоей милости вечного здравия во Христе и молим не забывать о нас» [Рыбаков 2008. С. 236‒242].
Вы очень порадовали меня, когда вспомнили о нашей просьбе и написали нам все то, что Вы смогли выяснить касательно природы кинокефалов. Что же до того, что я ничего не ответил Вам на Ваши вопросы, знайте: это произошло вовсе не из-за лени и не по небрежению, а потому, что ответ не с кем было переслать. Сейчас наконец такая возможность предоставилась благодаря брату Сарварду, который заехал к нам, а к вам направляется, и мы взялись кратко изложить то, что думаем об интересующем Вас предмете. Вы спрашиваете, как должно судить о кинокефалах: происходят ли они от семени Адамова или же в них звериная душа? В общем и целом по этому вопросу можно вынести такое суждение: если их следует относить к человеческому роду, то ни у кого не может возникнуть сомнений, что они являются потомками первого человека. Ибо нельзя допустить, чтобы человеческое существо происходило откуда-либо еще, нежели как от плоти прародителя. Если же они причисляются к роду звериному, тогда они сходны с человеком лишь внешне, а не по природе. При этом нужно иметь в виду, что если мы доверимся мнению наших, то есть учителей церкви, то кинокефалов следует относить скорее к животным, нежели к людям, постольку поскольку и устройство головы, и издаваемый ими собачий лай выдают в них не людей, а зверей. Действительно, людям свойственно иметь круглую голову и смотреть в небеса, собакам же — вытянутую, с опущенным вниз носом и глядеть в землю. Люди говорят, а собаки лают. Однако в посланиях, отправленных нам Вашей милостью, где сообщаются более точные сведения о природе кинокефалов, описано кое-что такое, что, как кажется, скорее соответствует человеческому разуму, а не животным инстинктам: что они соблюдают некие общественные предписания; что у них имеются поселения; что они занимаются земледелием (это следует из того, что они собирают урожай); что они из благопристойности прикрывают стыд, подобно людям, а не открывают его, подобно животным (это есть указание на чувство стыдливости); что, как Вы пишете, они пользуются для этого не только шкурами, но и одеждой — все это некоторым образом свидетельствует в пользу наличия у них разумной души. Ибо считается, что человеческое общество — это собрание людей, которые все живут по одним законам. А коль скоро о кинокефалах говорят, что они обитают совместно в неких селениях, то, как представляется, будет правильным применить к ним определение человеческого общества. Ведь их сообщество достаточно многочисленно, а кроме того, они не могли бы существовать, не будь у них тех или иных законов. А где соблюдают какой-нибудь закон, там он поддерживается и общим согласием, потому что ни один закон не может действовать, не будучи установлен по общему согласию. И никогда не бывало такого, чтобы закон вводили и следовали ему, не обладая понятием о нравственности. Да и само то, что они возделывают поля — взрывают борозды, отдают семя в рост земле, указывает на искушенность в ремеслах. Такой искушенности, как известно, могут достичь только лишь существа, наделенные разумом. Ибо изыскивать причины явлений, например: что делает почвы плодородными, как добиться изобильного урожая, – есть свойство разума. А без знания этих вещей никогда не удавалось с пользой практиковать земледелие. Далее, умение изготовлять одежду, будь то из шкур, из шерсти или изо льна, есть признак разумной души. Ибо все это доступно лишь тем, кто обладает некоторыми ремесленными навыками, знание же ремесел даровано одной только разумной душе. Вот и то, что они прикрывают стыд, есть показатель чувства достоинства; этого можно ожидать лишь от того, кто наделен способностью различать между позорным и достойным. Ибо никто не может гореть от позора, если у него нет понятия о достоинстве. Итак, все перечисленное присуще разумной душе, и это станет отрицать лишь безумец. Только разум, дающий возможность выносить суждения, и талант, развитый до высокой степени, позволяют различать достойное и позорное, способствуют овладению ремеслами, помогают устанавливать законы, ведущие к миру и взаимному согласию. Поэтому, если Вы говорите, что перечисленное обнаруживается у кинокефалов, то тем самым Вы свидетельствуете о наличии у них разумной души. Ибо единственное, что отличает человека от животных, — это разум. А так как последний, по-видимому, имеется у тех, кого мы обсуждаем, то их следует скорее относить к людям, нежели к животным.
Пониманию этого явления немало способствует книга о мученичестве святого Христофора. Ведь, как в ней сказано, Христофор происходил как раз из этого рода людей; при этом достоверно известно, что своей жизнью и мученической кончиной он дал совершенно явные свидетельства своих добродетелей. Ибо, как написано в этой книге, его окутало загадочное облако, и на него свыше снизошло таинство крещения. Кроме того, летучая молва доносит многое, что, как кажется, подтверждает наличие разума у людей из этого самого племени. Так, Исидор в „Этимологиях“, повествуя о разнообразных чудовищах, которые вышли из человеческого рода, среди прочего пишет следующее: „Подобно тому как в каждом человеческом сообществе появляются уродцы, так и весь человеческий род в целом произвел племена чудовищ, например гигантов, кинокефалов, циклопов и другие“ [XI.3.12]. Этими словами он дал ясное указание, что, по его суждению, кинокефалы ведут свое происхождение от семени первого человека. Ибо в каждом человеческом сообществе рождаются на свет существа, на первый взгляд, устроенные наперекор законам природы, как-то: двухголовые, трехрукие, карлики, гермафродиты (или андрогины) и многие другие. Однако поскольку они появляются промыслом Всевышнего, то это уже не наперекор законам природы, ведь законы природы — это и есть промысел Божества. Точно так же и перечисленные выше создания — те чудовища из рода людского, которые представляют собой некие знамения, — а также прочие, перечислять коих из-за их многочисленности слишком долго: пигмеи, что ростом с локоть; антиподы, у которых ступни ног смотрят назад и на каждой из них по восемь пальцев; гиппоподы с телом как у человека, но с лошадиными ногами; макробии, почти вдвое превосходящие ростом обычных людей; те индийские женщины, что беременеют в пять лет, а живут — не больше восьми, и многие другие, в чье существование почти невозможно поверить, — все они являются племенами чудовищ, порожденными сообществом обычных людей, то есть всем человеческим родом в целом. И хотя пишут, что они ведут свое происхождение от человеческого рода, однако никто вследствие этого или просто так не утверждает, что сии люди наделены разумом. Что же касается гигантов, коих относят к числу этих чудовищ, то едва ли кто-нибудь усомнится в том, что это были люди, рожденные людьми, ведь, как нам хорошо известно, надежное свидетельство этому дает Священное писание [Быт. 6: 4. Вульгата: gigantes autem erant super terram in diebus illis postquam enim ingressi sunt flii Dei ad flias hominum illaeque genuerunt isti sunt potentes a saeculo viri famosi. Русский синодальный перевод: „В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди“. — Прим. В.В. Рыбакова]. Коль скоро кинокефалов следует относить к таким же существам, то и о них нужно думать то же самое, особенно если действительно правда все то, что написано о святом Христофоре, и то, что разносит о них летучая молва. Однако же, говоря или рассуждая так, нельзя сделать вывод, что всякое существо, рожденное от человека, также будет человеком и окажется наделено сокровищем человеческого разума. Пишут же, например, что случалось женщине родить звереныша или змею, но из этого я не заключу, что у такого звереныша или у такой змеи была человеческая душа, то есть душа разумная. А это чудовище, которое принесла одна женщина во времена царя Александра [Македонского]? Верхняя часть тела у него была человечья, а нижняя по виду напоминала части тела различных животных. Полагаю, что едва ли когда-либо кто-либо, если он в своем уме, согласится признать, что эти животины, хотя и произошли от семени человека, были наделены разумной душой. Вот почему — если бы меня не склоняло к этому мнению как то, что Вы пишете о кинокефалах, так и то, что я читал и слышал о них, — я бы не поверил, что, поскольку те, о ком идет речь, ведут свое происхождение от людей, постольку они имеют разумную душу. Однако теперь, получив столь важные и убедительные свидетельства о данном предмете, я думаю, что будет скорее упрямством, нежели благоразумием не доверять им или отыскивать аргументы против. Кроме того, как становится ясно из Вашего письма, у кинокефалов имеются все те виды домашних животных, которые держат в нашей полосе. Я ником образом не могу допустить возможность этого, если у них звериная, а не разумная душа, ибо, как нам известно из книги Бытия, именно человеку сам Господь дал во владение прочих скотов земных. А чтобы одни животные взращивали других (тем более домашних!), заботились о них, заставляли их себе подчиняться и использовали бы их для своих целей — дело неслыханное и невероятное. Так что, коль скоро кинокефалы держат множество домашних животных, то с этим никак не вяжется звериная дикость — ведь домашних животных приручает только доброта.
Вот то, что, по моему мнению, надлежит думать о кинокефалах. Впрочем, будет ли угодно и другим думать так же, или же иначе — не наше дело. А что касается книги святого Климента, о которой Вы спрашиваете, то ее не относят к Священному преданию, хотя и не отвергают полностью. Дело в том, что в ней написано кое-что такое, что не полностью соответствует нашей, то есть церковной догме. Однако же то, что в ней говорится о деяниях апостола Петра, принимается, так как в этом нет ничего, что бы не отвечало или противоречило христианскому учению.
Желаем твоей милости вечного здравия во Христе и молим не забывать о нас» [Рыбаков 2008. С. 236‒242].
- «Песеголовцы. Раньше не было для войны оружия, а были такие люди, которые назывались одноглазыми или песеголовцами. Они людей ловили и пожирали. Так и воевали. А если человек от них убежать задумает, то, как от других, ему не убежать: нужно только как можно быстрее переобуться: надеть обувь носками назад. Тогда песеголовцы одуреют и не смогут изловить человека.
Записано в Линкишкяе от Буркаускаса. Зап. Якштонис. Традиционный вариант сказания. Записано 7 вариантов.
- Ошпаренный песеголовец. Был полупес-получеловек. Если лапти обуть как всегда, он учует и настигнет, а если задом наперед, то нет.
Записано в дер. Криконис, Игналинский р-н, от Э. Багдонене, 70 лет. Зап. Э. Каралюте в 1949 г. Своеобразный вариант сказания о песеголовцах. См. комментарий к сказанию „Песеголовцы“» [Велюс 1989. С. 296, 361 (коммент.)].
- «Песеголовцы. Раньше не было для войны оружия, а были такие люди, которые назывались одноглазыми или песеголовцами. Они людей ловили и пожирали. Так и воевали. А если человек от них убежать задумает, то, как от других, ему не убежать: нужно только как можно быстрее переобуться: надеть обувь носками назад. Тогда песеголовцы одуреют и не смогут изловить человека.
Записано в Линкишкяе от Буркаускаса. Зап. Якштонис. Традиционный вариант сказания. Записано 7 вариантов.
- Ошпаренный песеголовец. Был полупес-получеловек. Если лапти обуть как всегда, он учует и настигнет, а если задом наперед, то нет.
Записано в дер. Криконис, Игналинский р-н, от Э. Багдонене, 70 лет. Зап. Э. Каралюте в 1949 г. Своеобразный вариант сказания о песеголовцах. См. комментарий к сказанию „Песеголовцы“» [Велюс 1989. С. 296, 361 (коммент.)].
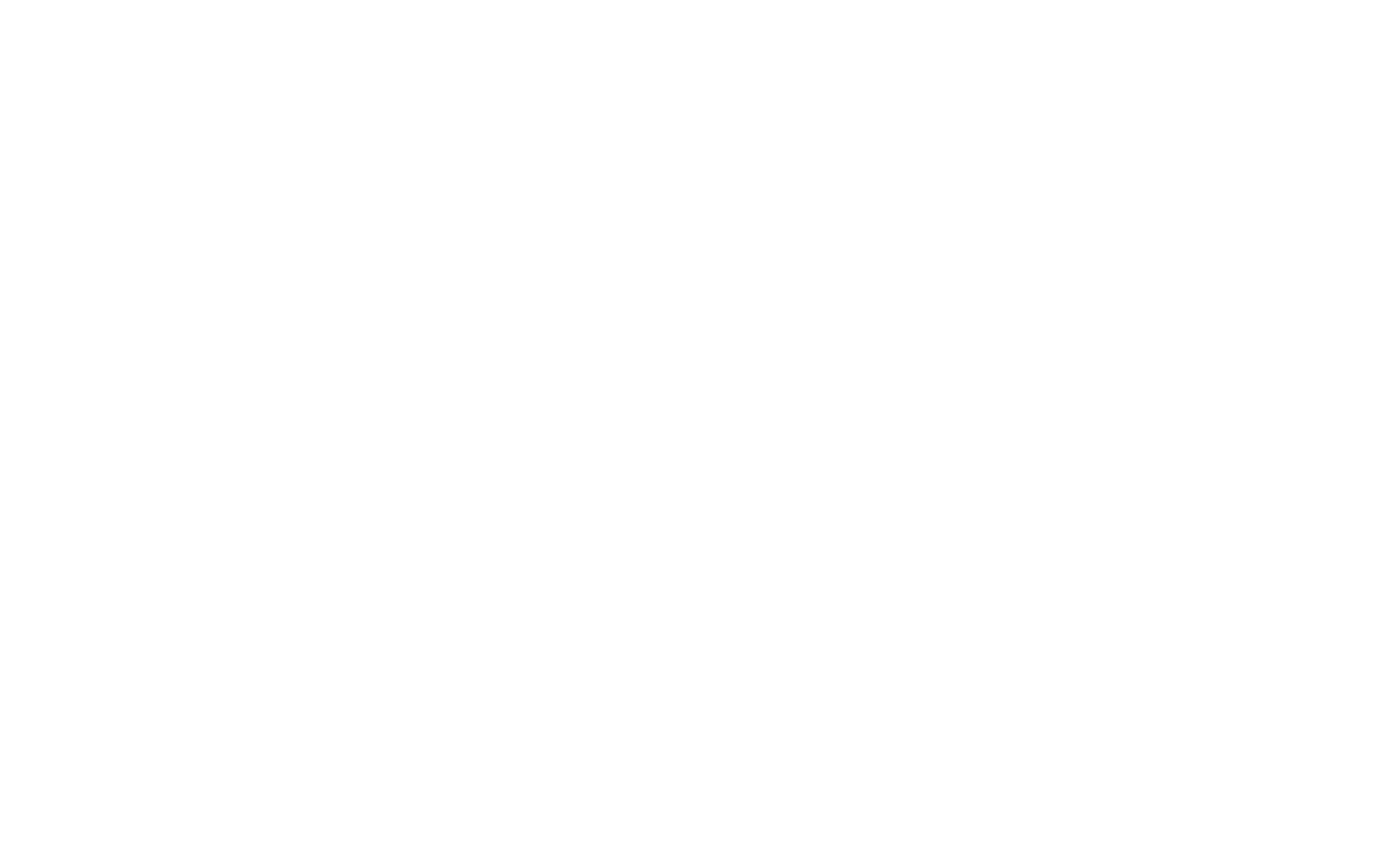
Полкан. Роспись на крышке сундука
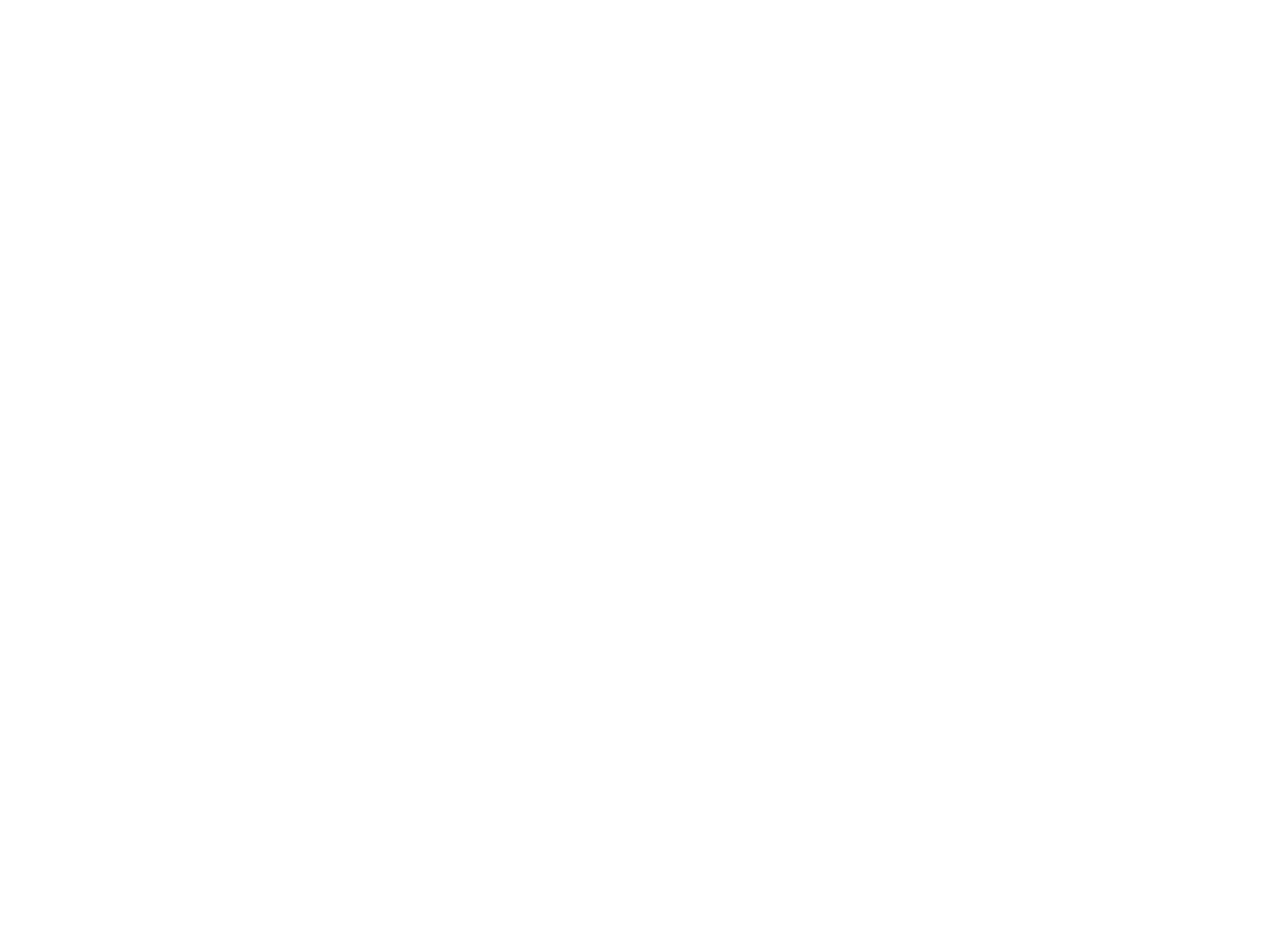
Сражение Бовы с Полканом (русский лубок)
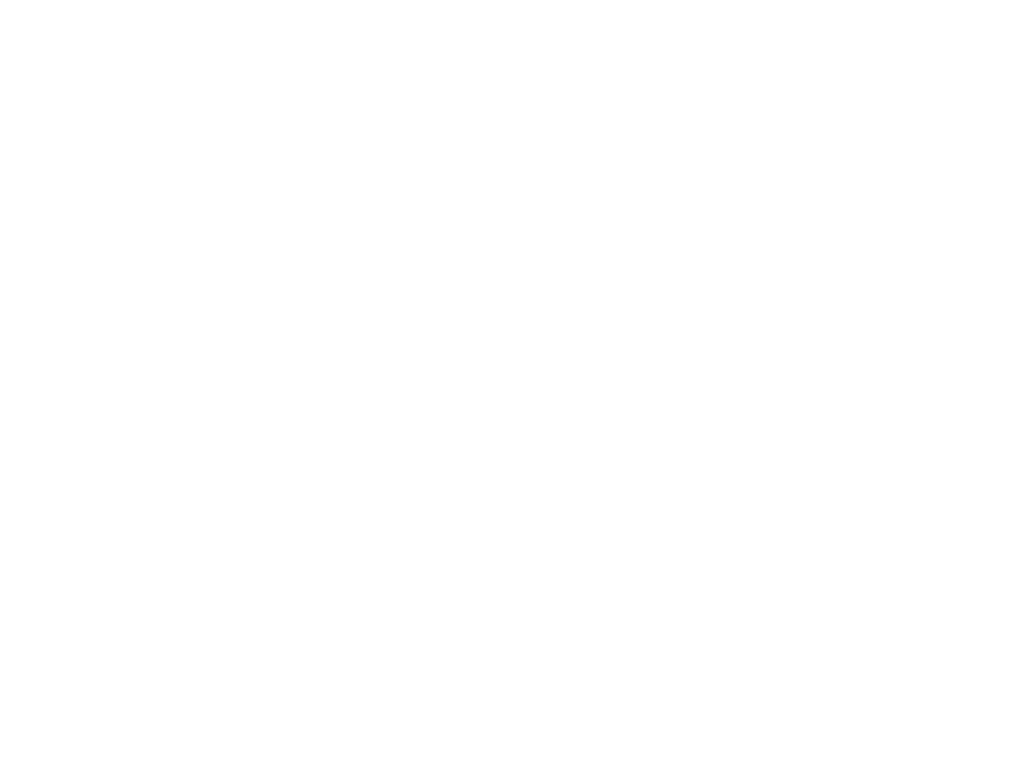
Сражение Бовы с Полканом (русский лубок)
Древние предания (как восточные, так и западные) говорят о X[ристофоре] как псеглавце [выделение наше, — прим. В.]. Многие версии называют его уроженцем страны кинокефалов и антропофагов (иногда отождествляемой с Ханааном); при этом предполагается, что, приняв крещение, он вместе с новым именем обретает и человеческий облик. Другие источники объясняют его псоглавость чудом, которое бог совершил по его молитве и дабы сделать проповедь его убедительной для язычников (ср. позднюю кипрскую легенду, согласно которой X[ристофор] испросил себе собачью голову, дабы не прельщать своей красотой поселянок). Православная иконографическая традиция удерживает образ X[ристофора] Кинокефала ещё на протяжении многих веков (впрочем, наряду с этим типом, византийская иконография знает и антропоморфный тип X[ристофора]-воина). Напротив, для западной иконографии определяющими становятся мотивы, получившие распространение благодаря „Золотой легенде“ Иакова Ворагинского.
Согласно версии, представленной в „Золотой легенде“, X[ристофор], простодушный великан и храбрец, ищет самого могущественного и великого властелина, чтобы поступить к нему на службу. Но он покидает службу у царя, который боится дьявола, и предлагает свои услуги последнему; обнаружив же, что дьявол трепещет при виде креста, вступает на путь служения Иисусу Христу (поиски того, кто сильнее всех, начинающиеся с ничтожно малого и постепенно приводящие к богу, — распространённый фольклорный мотив; ср. легенду об Аврааме). По совету некоего отшельника берётся переносить путников через речной поток, желая послужить этим богу. Однажды его просит переправить через реку ребёнок. Дойдя до середины брода, X[ристофор] ощущает на своих плечах невыносимую тяжесть, ему представляется, что он несёт не младенца, а целый мир. Ребёнок, оказывающийся Христом, объясняет ему, что он держит не только весь мир, но и того, кто сотворил этот мир (в основании легенды лежат два уравновешивающих друг друга парадокса: могущественнейший властелин, которому служит X[ристофор], оказывается младенцем, воплощением слабости и беззащитности; с другой стороны, этот младенец весомее и значительнее всей вселенной).
Начиная с 12 в. этот сюжет оказывает огромное влияние на западную иконографию, неизменно изображающую X[ристофора] с младенцем Христом в момент переправы через реку (рельеф капители колонны в церкви святого Христофора в Рио May, Португалия, 12 в.; миниатюра в Псалтири 12 в. из Вестминстерского аббатства, Лондон, Британский музей; картины К. Массиса, X. Босха, Пинтуриккьо; гравюры А. Дюрера, Й. Аммана и др.), и отчасти на православную. С именем X[ристофора], покровителя путников, моряков, врачебного искусства и пр., связано следующее поверье: достаточно увидеть его изображение, чтобы в этот день не подвергнуться внезапной смерти. В 16 и 17 вв. чеканились монеты с изображением X[ристофора] (дукат и талер), также служившие амулетами» [Нестерова 1982. С. 604‒605].
История почитания св. Христофора, как, впрочем, и многих других персонажей христианской мифологии, не лишена курьёзов. По легенде, он был огромного роста — 5 локтей (т.е. примерно 2,3 м). В эпоху Позднего Средневековья огромный зуб, якобы принадлежащий св. Христофору, был доставлен монахами в город Верчелли, северная Италия. Паломники приходили посмотреть на этот зуб со всей Европы вплоть до конца XVIII в., когда осмотр натуралистом выявил, что зуб в действительности принадлежит гиппопотаму. С тех пор зуб убрали с алтаря и запретили поклоняться ему.
Древние предания (как восточные, так и западные) говорят о X[ристофоре] как псеглавце [выделение наше, — прим. В.]. Многие версии называют его уроженцем страны кинокефалов и антропофагов (иногда отождествляемой с Ханааном); при этом предполагается, что, приняв крещение, он вместе с новым именем обретает и человеческий облик. Другие источники объясняют его псоглавость чудом, которое бог совершил по его молитве и дабы сделать проповедь его убедительной для язычников (ср. позднюю кипрскую легенду, согласно которой X[ристофор] испросил себе собачью голову, дабы не прельщать своей красотой поселянок). Православная иконографическая традиция удерживает образ X[ристофора] Кинокефала ещё на протяжении многих веков (впрочем, наряду с этим типом, византийская иконография знает и антропоморфный тип X[ристофора]-воина). Напротив, для западной иконографии определяющими становятся мотивы, получившие распространение благодаря „Золотой легенде“ Иакова Ворагинского.
Согласно версии, представленной в „Золотой легенде“, X[ристофор], простодушный великан и храбрец, ищет самого могущественного и великого властелина, чтобы поступить к нему на службу. Но он покидает службу у царя, который боится дьявола, и предлагает свои услуги последнему; обнаружив же, что дьявол трепещет при виде креста, вступает на путь служения Иисусу Христу (поиски того, кто сильнее всех, начинающиеся с ничтожно малого и постепенно приводящие к богу, — распространённый фольклорный мотив; ср. легенду об Аврааме). По совету некоего отшельника берётся переносить путников через речной поток, желая послужить этим богу. Однажды его просит переправить через реку ребёнок. Дойдя до середины брода, X[ристофор] ощущает на своих плечах невыносимую тяжесть, ему представляется, что он несёт не младенца, а целый мир. Ребёнок, оказывающийся Христом, объясняет ему, что он держит не только весь мир, но и того, кто сотворил этот мир (в основании легенды лежат два уравновешивающих друг друга парадокса: могущественнейший властелин, которому служит X[ристофор], оказывается младенцем, воплощением слабости и беззащитности; с другой стороны, этот младенец весомее и значительнее всей вселенной).
Начиная с 12 в. этот сюжет оказывает огромное влияние на западную иконографию, неизменно изображающую X[ристофора] с младенцем Христом в момент переправы через реку (рельеф капители колонны в церкви святого Христофора в Рио May, Португалия, 12 в.; миниатюра в Псалтири 12 в. из Вестминстерского аббатства, Лондон, Британский музей; картины К. Массиса, X. Босха, Пинтуриккьо; гравюры А. Дюрера, Й. Аммана и др.), и отчасти на православную. С именем X[ристофора], покровителя путников, моряков, врачебного искусства и пр., связано следующее поверье: достаточно увидеть его изображение, чтобы в этот день не подвергнуться внезапной смерти. В 16 и 17 вв. чеканились монеты с изображением X[ристофора] (дукат и талер), также служившие амулетами» [Нестерова 1982. С. 604‒605].
История почитания св. Христофора, как, впрочем, и многих других персонажей христианской мифологии, не лишена курьёзов. По легенде, он был огромного роста — 5 локтей (т.е. примерно 2,3 м). В эпоху Позднего Средневековья огромный зуб, якобы принадлежащий св. Христофору, был доставлен монахами в город Верчелли, северная Италия. Паломники приходили посмотреть на этот зуб со всей Европы вплоть до конца XVIII в., когда осмотр натуралистом выявил, что зуб в действительности принадлежит гиппопотаму. С тех пор зуб убрали с алтаря и запретили поклоняться ему.
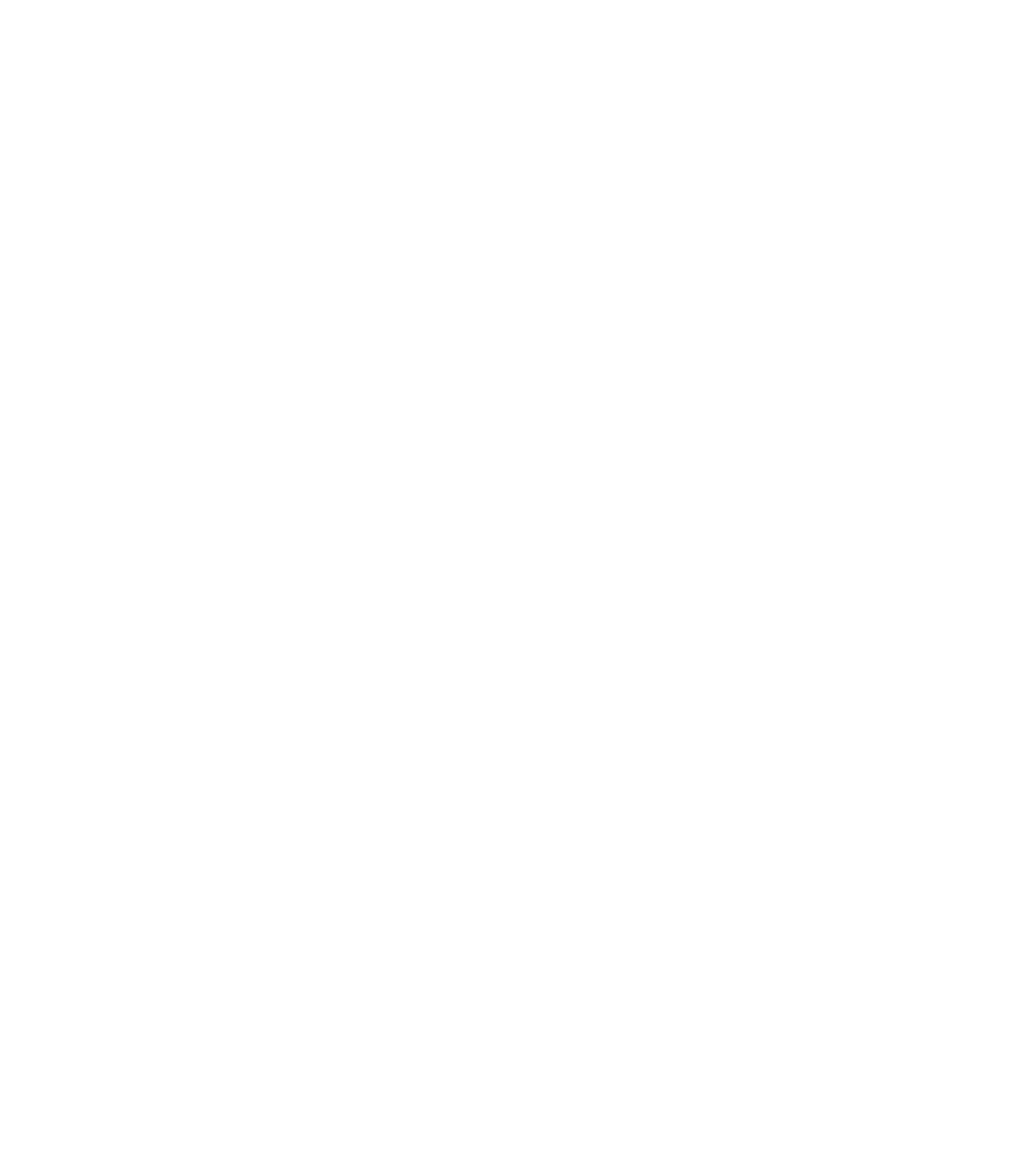
1) Каппадокийская икона XVII в. с изображением св. Христофора-псоглавца
2) Икона св. Христофора. XVII в. Художественный музей, г. Череповец
Версии сложения столь экзотической иконографии Христофора-псоглавца, в основном, связаны с предположением, что какое-либо его прозвище было истолковано ошибочно.
Варианты прозвища:
- от географического названия: местность Киноскефалия (гряда холмов в Фессалии);
- от слова cananeus («хананит»), которое могло быть истолковано как «собачий»;
- описание ужасной внешности — «звероподобный» — могло быть воспринято буквально;
- сравнение с символом верности — собакой — могло постепенно перерости в объединение образа с символом; некоторыми исследователями проводятся параллели с опричниками Ивана Грозного, приторачивавшими к лошадиному седлу голову собаки, что делало их, в известном смысле, «всадниками с собачьими головами» (подробнее об опричниках — см. далее), и т.п.
Версии сложения столь экзотической иконографии Христофора-псоглавца, в основном, связаны с предположением, что какое-либо его прозвище было истолковано ошибочно.
Варианты прозвища:
- от географического названия: местность Киноскефалия (гряда холмов в Фессалии);
- от слова cananeus («хананит»), которое могло быть истолковано как «собачий»;
- описание ужасной внешности — «звероподобный» — могло быть воспринято буквально;
- сравнение с символом верности — собакой — могло постепенно перерости в объединение образа с символом; некоторыми исследователями проводятся параллели с опричниками Ивана Грозного, приторачивавшими к лошадиному седлу голову собаки, что делало их, в известном смысле, «всадниками с собачьими головами» (подробнее об опричниках — см. далее), и т.п.
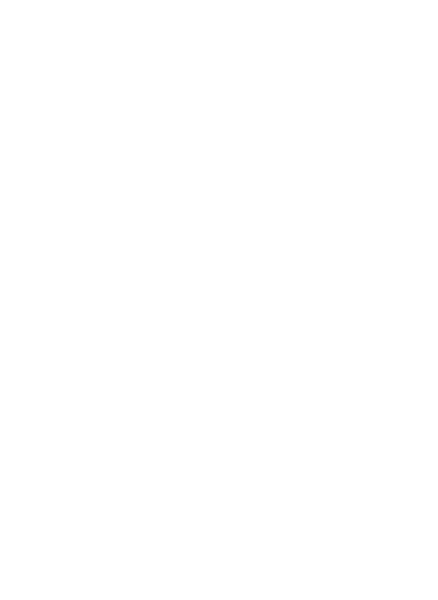
Святые псоглавцы Ахракас и Аугани (фрагмент иконы XVIII в.)
Есть вероятность, что человек, ставший прообразом Христофора, страдал редким типом генетической мутации, именуемой нынче как гипертрихоз универсальный (hypertrichosis universalis), или синдромом оборотня, в результате которой тело человека практически полностью покрывается густыми волосами, в том числе и лицо. Быть может, христианский святой имел прозвище, истолкованное последователями как характеристику его внешности. Как бы там ни было, загадка столь экзотической иконографии Христофора-псоглавца остается неразгаданной.
Есть вероятность, что человек, ставший прообразом Христофора, страдал редким типом генетической мутации, именуемой нынче как гипертрихоз универсальный (hypertrichosis universalis), или синдромом оборотня, в результате которой тело человека практически полностью покрывается густыми волосами, в том числе и лицо. Быть может, христианский святой имел прозвище, истолкованное последователями как характеристику его внешности. Как бы там ни было, загадка столь экзотической иконографии Христофора-псоглавца остается неразгаданной.
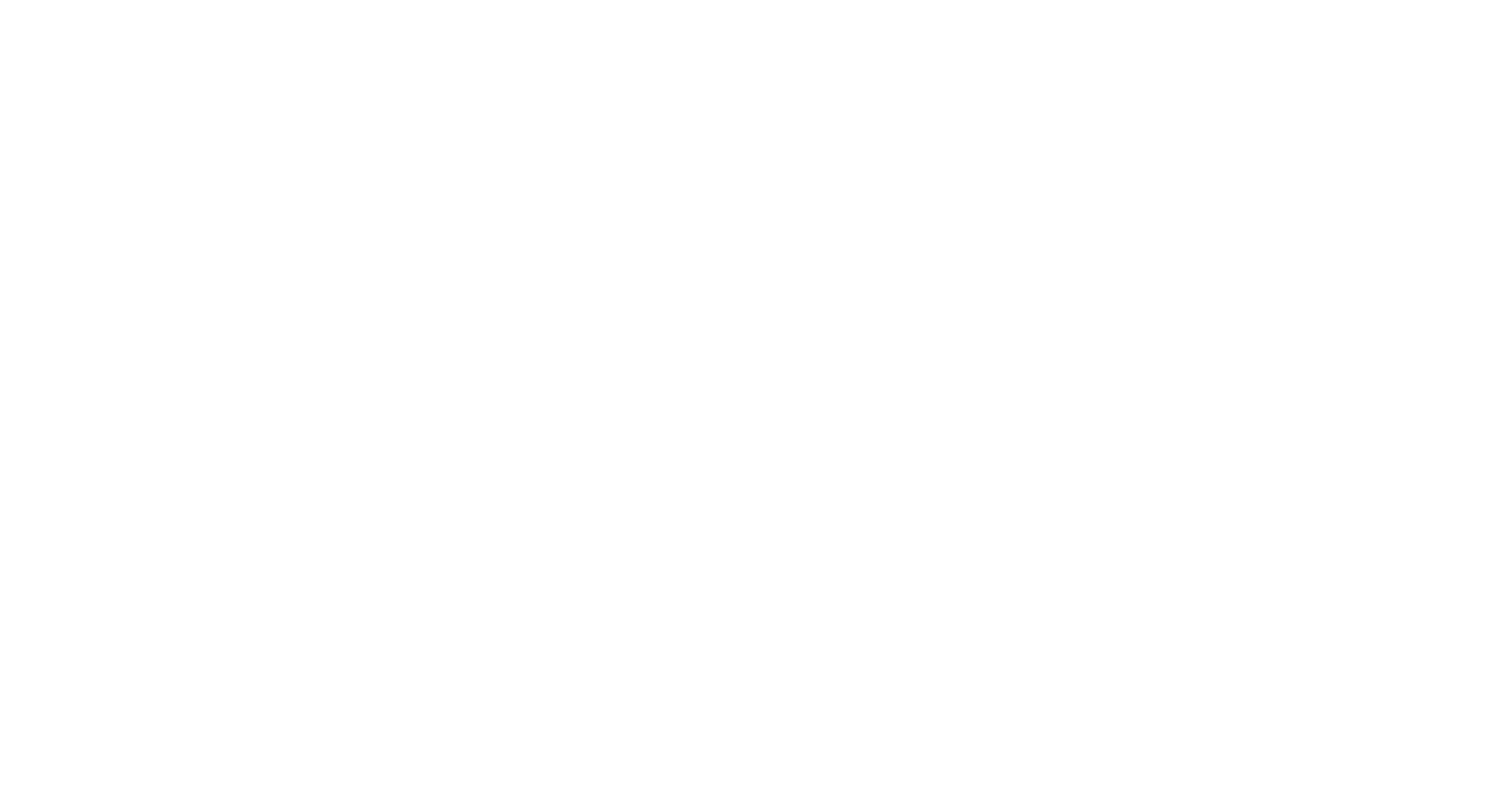
1) Св. Христофор. Фрагмент плащаницы. Сольвычегодск, втор. пол. 1660-х гг.
2) Св. Христофор. Русский лубок. 1700-е гг.
Заметим, что в церковных кругах к псам издавна относились, в общем-то, с большим подозрением. Так, например, когда св. Нифонт Констанцский (IV в.) «виде на месте гнойне пса тьмна лежаща, и помыслив, рече: „Еда есть пьс ци лукавый бес“, — пьръстъмь кажа и. Он же видев правьдьнаго, пьръстъмь себе кажюща, и въвънезапу припаде ко блаженому, растьрзати и хотя, святый же дуну нань, и невидим бысть». — «[Нифонт] увидел, что на гнойном месте лежит темный пес. Подумав, [святой] сказал: „А не лукавый ли это бес?“ — указывая на него пальцем. Тот же, увидев, что праведный показывает на него пальцем, внезапно напал на блаженного, желая его растерзать, святой же дунул на него, и тот исчез» [ЖНК 2018. Дата обращения: 23.12.2022]. Д.И. Антонов и М.Р. Майзульс, исследуя визуальные образы древнерусской демонологии, замечают: «в лицевых Житиях Нифонта Констанцского можно увидеть черного пса — призрачную маску сатаны. Часто на следующей миниатюре рядом с этим образом возникает фигура демона, которая не оставляет сомнения в том, кто скрывается под звериной личиной» [Антонов‒Майзульс 2018. С. 60]. В иллюстрированном Житии Андрея Юродивого XVII в. сходным образом изображён «бес, явившийся девушке в облике черного пса» [Антонов‒Майзульс 2018. С. 62]. Иногда дьявол не принимает образ собаки, но самолично «входит» в животное: «Демоны входятъ въ собакъ (δαίμονες εἰσελϑόντες εἰς ϰύνας). Собака лопается, и въ ея чревѣ находятъ мертваго дракона-дьявола (διερράγη ὁ ϰύων, ϰαὶ εὑρέϑη ἐν τῇ ϰοιλίᾳ αὐτοῦ δράϰων νεϰρός)» [Шестаков 1910. С. 230]. В православных «житиях святых» христианин Аифал (Аиѳалъ) бросает оскорбление языческому жрецу: «Песъ смердящiй и нечистый!» [ЖС III 1902. С. 44]. А сам апостол Павел в Послании к Филиппийцам (III:2) прямо призывает свою паству: «Берегитесь псовъ, берегитесь злыхъ дѣлателей, берегитесь обрѣзанiя» [ТБ XI 1913. С. 293]. И т.п.
И.Г. Прыжов в своём этнографическом описании русских кликуш, написанном ещё в XIX в., сообщает, что в 1552 г. «бесновавшиеся» в католическом монастыре близ Страсбурга монахини «в бешенстве кусали друг друга» [Прыжов 1996. С. 80], а в жизнеописаниях «26 московских пророков, юродивых, дур и дураков» приводит любопытное свидетельство об «искушениях» некоего «отца» Гавриила Афонского: «Демоны в разных видах не оставляли его ни днем, ни ночью. Днем он все видел около своей кельи молодых крестьянок, собирающих будто бы ягоды, а они то манили его к себе, то водили на его глазах хороводы, то пели песни. По ночам же к нему являлись разные чудовища: то слышался вой волков, то будто бы разбойники пришли его убить и топорами стучатся в его двери, то появлялись молодые нагие красавицы и обнимали его» [Прыжов 1996. С. 55].
При прохождении обряда колдовского посвящения, как его описывает русская фольклорная традиция, инициируемому иногда представлялось, что он влезал в пасть неестественно огромного животного — собаки, свиньи или жабы, образы которых могла принимать «нечистая сила». Ср., например, такой рассказ: «Жили два кума: одинъ колдунъ, а другой нѣтъ. Неколдунъ и говоритъ колдуну: „научи меня, кумъ, колдовать“. — „Если будешь исполнять все, что я тебѣ ни скажу, и отречешься отъ роду, то и будешь умѣть колдовать“. — „Исполню все“, отвѣтилъ тотъ. — „Такъ слушай: завтра, какъ встанешь, возьми икону съ божнички и бѣги на перекрестокъ; тамъ на самой срединѣ перекрестка положи икону внизъ ликомъ и стань на нее ногами и стой, пока не придетъ къ тебѣ ″ёнъ″“. На другой день мужикъ такъ и сдѣлалъ, какъ говорилъ кумъ. На перекресткѣ ему не пришлось долго ждать. Онъ слышитъ голосъ сзади себя: „Исполнилъ ли все то, что я тебѣ говорилъ?“ — „Исполнилъ“, отвѣчаетъ мужикъ. — „Ну, лѣзь сюда!“ Мужикъ обернулся и увидѣлъ сзади себя большую собаку съ разинутой пастью. Испугался онъ и взмолился: „да Господи, куда же я полѣзу?“ Собака тотчасъ провалилась, а мужикъ, не сдѣлавшись колдуномъ, пришелъ домой и сталъ чахнуть. Почахъ, почахъ, да черезъ годъ и умеръ» [Колчин 1899. С. 35‒36].
Рассказы о посвящении в колдуны, записанные в XX в., уже в советское время, порой неожиданным образом сочетают в себе архаические черты с элементами конкретной исторической эпохи: «Было это, когда коммуну организовывали. И был тогда здесь Лаврентий Михайлович Савинов — Большедворский. Он с мужиками на Ор приехал бочки делать.
И вот брат Кузьма смечает и смечает его: ночью все спят, а Лавруха все что-то бормочет и бормочет.
Я как сейчас помню: поужинали, сели курить, а брат Кузьма и говорит:
— Пошто это вы, Лаврентий Михайлович, ночью бормочете? Разговариваете с кем али как?
— Ой, Кузьма Егорович, я сам себя испортил. А дело было так: пришел я с армии, и задались мы с одним товарищем мыслью: почему это дедушку Володю Забугорского из Большедворского все уважают, почитают. Вот бы, мол, и нас так. Пошли к нему и спросили, почему так? Он и говорит: „Я вас поучить могу, но тайно, и если у вас сердце крепкое. Я вас буду учить по книге ″Магнаи″“. Стали мы учиться. Может, и год прошел. Потом дедушка Володя и говорит: „Но, ребята, содня-то будет страшно. Только вы сдоржитесь. Это конец ученью“.
Привел нас в баню, говорит: „Вот сидите на полке, а в полночь к вам большая-большая собака выйдет, откроет вот такую пасть, и вы нисколь не теряйтесь, берите и лезьте к ей в пасть. Если испугаетесь, тогда на век нелюди будете“.
Настала ночь. Кичиги к обеду подошли (это таки три звезды из-за горы выходят). И ниоткуль вышла такая необыкновенная собака. Ужахнулся я... даже задницу с полка не мог отодрать. Язык во рту со страху околел...
Вот и стал я с тех пор страдать. Как лягу спать, так нечистики тычат и тычат, спать не дают...» [Шастина 1981. С. 74‒75].
Развязка этой истории такова: «По совету дедушки Володи он дает нечистикам три волшебные задачи. Две они выполняют и почти уже оставляют его, но для выполнения третьей он не может создать им соответствующих условий. „Потому, — заканчивает Шеметова, — совсем они от него не отстали. Вот он спать-то по ночам и не может, все шопчет да шопчет, разны складки складывает“» [Шастина 1981. С. 75].
А.В. Никитина в «Русской демонологии» замечает: «сам момент посвящения в колдуны для большинства оказывается испытанием непосильным — от посвящаемого требуют отречения от Бога, от отца и матери, от всего своего рода „от 12-ти колен“; заставляют снять нательный крест, встать ногами на икону или стрелять в нее из ружья; велят лезть в пасть чудовищного существа — свиньи, собаки, жабы, и черт знает, что еще проделывать...» [Никитина 2006. С. 272]. Какие именно практики или вещества позволяли вступающему на путь колдуна слышать «голоса» и видеть словно воочию чудовищных собак — это для нас сейчас не существенно, тогда как на ритуальное нарушение запретов окружающего общества при посвящениях такого рода, пожалуй, стоит обратить самое пристальное внимание: возможно, дело здесь не только и даже не столько в антихристианстве как таковом, сколько в психологическом «разрыве шаблона», необходимом для того, чтобы будущий колдун сумел выйти за пределы своей прежней (обычной, обывательской) картины мира и коренным образом изменить свою жизнь.
В XIX в. П.И. Якушкин записал в деревне Сабурово Малоархангельского уезда народную легенду «Про Адама и Евгу», в которой рассказывается, как «чистое животное» собака превратилась в «нечистого» пса вследствие проклятия библейского Бога: «Создал Господь Адама и Евгу и пустил их жить в пресветлом раю; а к воротам райским приставил собаку, зверя чистого; по всем раю ходила. И повелел Господи собаке, зверю чистому: „Не пускай, собака, зверь чистый, не пускай ты чорта лукавого в рай: не напоганил бы он моих людей“.
Лукавый чорт пришел к райским воротам, бросил собаке кусок хлеба, а та собака и пропустила лукавого в рай. Лукавый чорт возьми да и оплюй Адама с Евгой; всех оплевал, с головы до последнего мизинчика во левой ноге. Приходит Господи — только руками об полы ударил! На Адама с Евгой глянуть срамно!.. Но Богу, известно, не обтирать их стать, не марать же рук в чертовы слюни: взял да и выворотил Адама с Евгой. От того и слюна погана. „Слушай, собака, — сказал Господи, — была ты, собака, — чистый зверь: ходила по всем пресветлом раю; отныне будь ты, пес, — нечистый зверь; в избу тебя грех пускать, коли в церковь вбежишь — церковь снова святить“. С тех пор не собака зовется, а пес: по шерсти погана, а по нутру чиста» [Киреевский II 1986. C. 38 (№ 41)].
В России иконы Христофора «с песьею главою» были официально запрещены постановлением Синода от 1722 г. как «противные природе, истории и самой истине», однако подобного рода изображения сохранились в старообрядческой иконописной традиции. Так, святитель Димитрий Ростовский в своём полемическом сочинении против старообрядцев «Розыск о раскольнической брынской вере» (1-е изд. 1745) писал: «И иная многая нелѣпая обыкоша тiи писати: якоже святаго мученика Христофора съ песiею главою, святых мученикъ Флора и Лавра съ лошадьми, яже суть небылица» [Розыск о брынской вере 1855. С. 415].
Заметим, что в церковных кругах к псам издавна относились, в общем-то, с большим подозрением. Так, например, когда св. Нифонт Констанцский (IV в.) «виде на месте гнойне пса тьмна лежаща, и помыслив, рече: „Еда есть пьс ци лукавый бес“, — пьръстъмь кажа и. Он же видев правьдьнаго, пьръстъмь себе кажюща, и въвънезапу припаде ко блаженому, растьрзати и хотя, святый же дуну нань, и невидим бысть». — «[Нифонт] увидел, что на гнойном месте лежит темный пес. Подумав, [святой] сказал: „А не лукавый ли это бес?“ — указывая на него пальцем. Тот же, увидев, что праведный показывает на него пальцем, внезапно напал на блаженного, желая его растерзать, святой же дунул на него, и тот исчез» [ЖНК 2018. Дата обращения: 23.12.2022]. Д.И. Антонов и М.Р. Майзульс, исследуя визуальные образы древнерусской демонологии, замечают: «в лицевых Житиях Нифонта Констанцского можно увидеть черного пса — призрачную маску сатаны. Часто на следующей миниатюре рядом с этим образом возникает фигура демона, которая не оставляет сомнения в том, кто скрывается под звериной личиной» [Антонов‒Майзульс 2018. С. 60]. В иллюстрированном Житии Андрея Юродивого XVII в. сходным образом изображён «бес, явившийся девушке в облике черного пса» [Антонов‒Майзульс 2018. С. 62]. Иногда дьявол не принимает образ собаки, но самолично «входит» в животное: «Демоны входятъ въ собакъ (δαίμονες εἰσελϑόντες εἰς ϰύνας). Собака лопается, и въ ея чревѣ находятъ мертваго дракона-дьявола (διερράγη ὁ ϰύων, ϰαὶ εὑρέϑη ἐν τῇ ϰοιλίᾳ αὐτοῦ δράϰων νεϰρός)» [Шестаков 1910. С. 230]. В православных «житиях святых» христианин Аифал (Аиѳалъ) бросает оскорбление языческому жрецу: «Песъ смердящiй и нечистый!» [ЖС III 1902. С. 44]. А сам апостол Павел в Послании к Филиппийцам (III:2) прямо призывает свою паству: «Берегитесь псовъ, берегитесь злыхъ дѣлателей, берегитесь обрѣзанiя» [ТБ XI 1913. С. 293]. И т.п.
И.Г. Прыжов в своём этнографическом описании русских кликуш, написанном ещё в XIX в., сообщает, что в 1552 г. «бесновавшиеся» в католическом монастыре близ Страсбурга монахини «в бешенстве кусали друг друга» [Прыжов 1996. С. 80], а в жизнеописаниях «26 московских пророков, юродивых, дур и дураков» приводит любопытное свидетельство об «искушениях» некоего «отца» Гавриила Афонского: «Демоны в разных видах не оставляли его ни днем, ни ночью. Днем он все видел около своей кельи молодых крестьянок, собирающих будто бы ягоды, а они то манили его к себе, то водили на его глазах хороводы, то пели песни. По ночам же к нему являлись разные чудовища: то слышался вой волков, то будто бы разбойники пришли его убить и топорами стучатся в его двери, то появлялись молодые нагие красавицы и обнимали его» [Прыжов 1996. С. 55].
При прохождении обряда колдовского посвящения, как его описывает русская фольклорная традиция, инициируемому иногда представлялось, что он влезал в пасть неестественно огромного животного — собаки, свиньи или жабы, образы которых могла принимать «нечистая сила». Ср., например, такой рассказ: «Жили два кума: одинъ колдунъ, а другой нѣтъ. Неколдунъ и говоритъ колдуну: „научи меня, кумъ, колдовать“. — „Если будешь исполнять все, что я тебѣ ни скажу, и отречешься отъ роду, то и будешь умѣть колдовать“. — „Исполню все“, отвѣтилъ тотъ. — „Такъ слушай: завтра, какъ встанешь, возьми икону съ божнички и бѣги на перекрестокъ; тамъ на самой срединѣ перекрестка положи икону внизъ ликомъ и стань на нее ногами и стой, пока не придетъ къ тебѣ ″ёнъ″“. На другой день мужикъ такъ и сдѣлалъ, какъ говорилъ кумъ. На перекресткѣ ему не пришлось долго ждать. Онъ слышитъ голосъ сзади себя: „Исполнилъ ли все то, что я тебѣ говорилъ?“ — „Исполнилъ“, отвѣчаетъ мужикъ. — „Ну, лѣзь сюда!“ Мужикъ обернулся и увидѣлъ сзади себя большую собаку съ разинутой пастью. Испугался онъ и взмолился: „да Господи, куда же я полѣзу?“ Собака тотчасъ провалилась, а мужикъ, не сдѣлавшись колдуномъ, пришелъ домой и сталъ чахнуть. Почахъ, почахъ, да черезъ годъ и умеръ» [Колчин 1899. С. 35‒36].
Рассказы о посвящении в колдуны, записанные в XX в., уже в советское время, порой неожиданным образом сочетают в себе архаические черты с элементами конкретной исторической эпохи: «Было это, когда коммуну организовывали. И был тогда здесь Лаврентий Михайлович Савинов — Большедворский. Он с мужиками на Ор приехал бочки делать.
И вот брат Кузьма смечает и смечает его: ночью все спят, а Лавруха все что-то бормочет и бормочет.
Я как сейчас помню: поужинали, сели курить, а брат Кузьма и говорит:
— Пошто это вы, Лаврентий Михайлович, ночью бормочете? Разговариваете с кем али как?
— Ой, Кузьма Егорович, я сам себя испортил. А дело было так: пришел я с армии, и задались мы с одним товарищем мыслью: почему это дедушку Володю Забугорского из Большедворского все уважают, почитают. Вот бы, мол, и нас так. Пошли к нему и спросили, почему так? Он и говорит: „Я вас поучить могу, но тайно, и если у вас сердце крепкое. Я вас буду учить по книге ″Магнаи″“. Стали мы учиться. Может, и год прошел. Потом дедушка Володя и говорит: „Но, ребята, содня-то будет страшно. Только вы сдоржитесь. Это конец ученью“.
Привел нас в баню, говорит: „Вот сидите на полке, а в полночь к вам большая-большая собака выйдет, откроет вот такую пасть, и вы нисколь не теряйтесь, берите и лезьте к ей в пасть. Если испугаетесь, тогда на век нелюди будете“.
Настала ночь. Кичиги к обеду подошли (это таки три звезды из-за горы выходят). И ниоткуль вышла такая необыкновенная собака. Ужахнулся я... даже задницу с полка не мог отодрать. Язык во рту со страху околел...
Вот и стал я с тех пор страдать. Как лягу спать, так нечистики тычат и тычат, спать не дают...» [Шастина 1981. С. 74‒75].
Развязка этой истории такова: «По совету дедушки Володи он дает нечистикам три волшебные задачи. Две они выполняют и почти уже оставляют его, но для выполнения третьей он не может создать им соответствующих условий. „Потому, — заканчивает Шеметова, — совсем они от него не отстали. Вот он спать-то по ночам и не может, все шопчет да шопчет, разны складки складывает“» [Шастина 1981. С. 75].
А.В. Никитина в «Русской демонологии» замечает: «сам момент посвящения в колдуны для большинства оказывается испытанием непосильным — от посвящаемого требуют отречения от Бога, от отца и матери, от всего своего рода „от 12-ти колен“; заставляют снять нательный крест, встать ногами на икону или стрелять в нее из ружья; велят лезть в пасть чудовищного существа — свиньи, собаки, жабы, и черт знает, что еще проделывать...» [Никитина 2006. С. 272]. Какие именно практики или вещества позволяли вступающему на путь колдуна слышать «голоса» и видеть словно воочию чудовищных собак — это для нас сейчас не существенно, тогда как на ритуальное нарушение запретов окружающего общества при посвящениях такого рода, пожалуй, стоит обратить самое пристальное внимание: возможно, дело здесь не только и даже не столько в антихристианстве как таковом, сколько в психологическом «разрыве шаблона», необходимом для того, чтобы будущий колдун сумел выйти за пределы своей прежней (обычной, обывательской) картины мира и коренным образом изменить свою жизнь.
В XIX в. П.И. Якушкин записал в деревне Сабурово Малоархангельского уезда народную легенду «Про Адама и Евгу», в которой рассказывается, как «чистое животное» собака превратилась в «нечистого» пса вследствие проклятия библейского Бога: «Создал Господь Адама и Евгу и пустил их жить в пресветлом раю; а к воротам райским приставил собаку, зверя чистого; по всем раю ходила. И повелел Господи собаке, зверю чистому: „Не пускай, собака, зверь чистый, не пускай ты чорта лукавого в рай: не напоганил бы он моих людей“.
Лукавый чорт пришел к райским воротам, бросил собаке кусок хлеба, а та собака и пропустила лукавого в рай. Лукавый чорт возьми да и оплюй Адама с Евгой; всех оплевал, с головы до последнего мизинчика во левой ноге. Приходит Господи — только руками об полы ударил! На Адама с Евгой глянуть срамно!.. Но Богу, известно, не обтирать их стать, не марать же рук в чертовы слюни: взял да и выворотил Адама с Евгой. От того и слюна погана. „Слушай, собака, — сказал Господи, — была ты, собака, — чистый зверь: ходила по всем пресветлом раю; отныне будь ты, пес, — нечистый зверь; в избу тебя грех пускать, коли в церковь вбежишь — церковь снова святить“. С тех пор не собака зовется, а пес: по шерсти погана, а по нутру чиста» [Киреевский II 1986. C. 38 (№ 41)].
В России иконы Христофора «с песьею главою» были официально запрещены постановлением Синода от 1722 г. как «противные природе, истории и самой истине», однако подобного рода изображения сохранились в старообрядческой иконописной традиции. Так, святитель Димитрий Ростовский в своём полемическом сочинении против старообрядцев «Розыск о раскольнической брынской вере» (1-е изд. 1745) писал: «И иная многая нелѣпая обыкоша тiи писати: якоже святаго мученика Христофора съ песiею главою, святых мученикъ Флора и Лавра съ лошадьми, яже суть небылица» [Розыск о брынской вере 1855. С. 415].
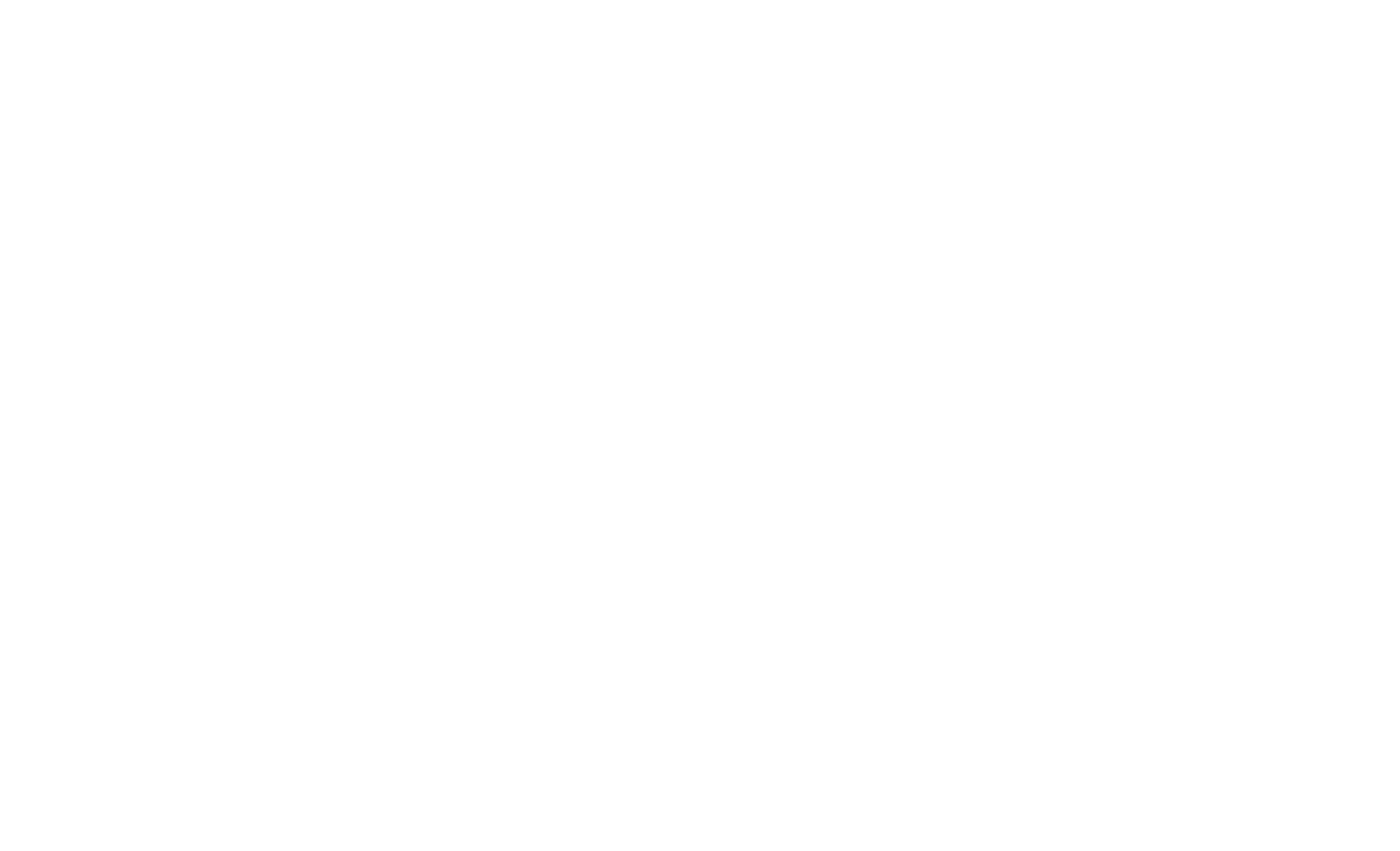
А вот на этой фреске из Свияжского Успенского монастыря св. Христофор изображён, кажется, с головою не пса, а лошади…
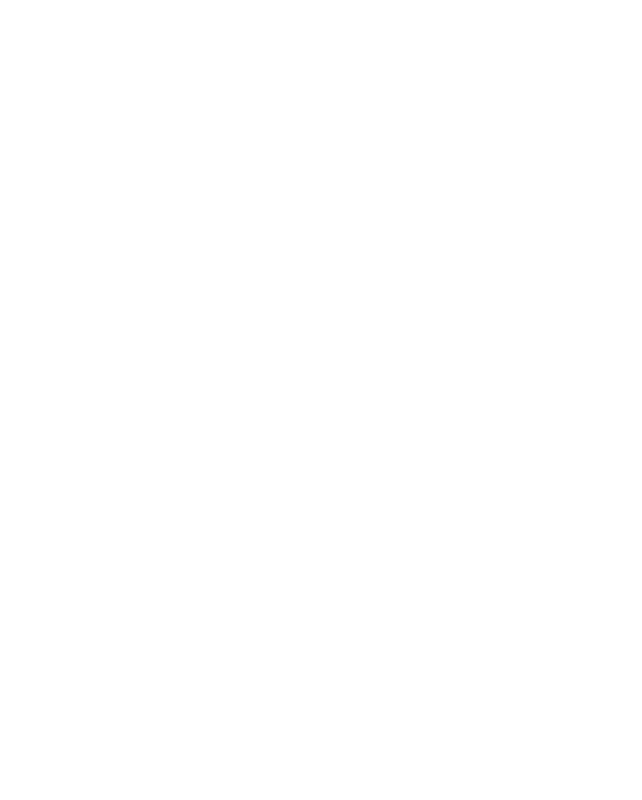
Аллегория тиранического правления Ивана Грозного. Германия, перв. пол. XVIII в. Изображение из немецкого еженедельника Давида Фассмана «Разговоры в царстве мёртвых» (Gespräche in dem Reiche derer Todten). Об Иване Грозном рассказывают, что в Пскове юродивый Никола «поднесъ Ивану кусокъ сырого мяса. „Я христiанинъ, и не ѣмъ мяса в постъ“, — сказалъ Иван. — „Ты хуже дѣлаешь, — сказалъ ему Никола, — ты ѣшь человѣческое мясо“» [Костомаров I 1888. С. 483]
Само слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «вне», «снаружи», «отдельно», «за пределами», «особый», «окроме» (т.е. «кроме»). «Опричниками» назывались государственные люди, составлявшие личную гвардию царя Иоанна IV и непосредственно осуществлявшие политику опричнины.
В.О. Ключевский писал: «Слово опричнина в XVI в. было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением особный двор. Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням-вдовам, в отличие от данных в пожизненное пользование, от прожитков. Опричнина царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора. Подобное учреждение возникло у нас позднее, в конце XVIII в., когда император Павел законом 5 апреля 1797 г. об императорской фамилии выделил „из государственных владений особые недвижимые имения“ в количестве свыше 460 тысяч душ крестьян мужского пола, состоявшие „в государственном исчислении под наименованием дворцовых волостей и деревень“ и получившие название удельных. Разница была лишь в том, что опричнина с дальнейшими присоединениями захватила чуть не половину всего государства, тогда как в удельное ведомство императора Павла вошла лишь ⅟₃₈ тогдашнего населения империи. Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину, как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства» [Ключевский II 1957. С. 177‒178].
Чтобы ввести опричнину, Иван Грозный разыграл перед народом целый кровавый спектакль: он оставил Москву и удалился в Александровскую слободу (позднее — уездный город Александров во Владимирской губернии), откуда через месяц «прислал в Москву две грамоты. В одной, описав беззакония боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр, на всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не радели, от врагов их не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них пред государем. И вот царь, гласила грамота, „от великой жалости сердца“, не стерпев всех этих измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему бог укажет. Это — как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе. Московскому простонародью, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них нет. Все замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государства. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство оборонять их от волков и хищных людей, а за государских изменников и лиходеев они не стоят и сами их истребят» [Ключевский II 1957. С. 174].
Вскоре царь, приняв «земское челобитие, согласился воротиться на царство, „паки взять свои государства“, но на условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 г., царь торжественно воротился в столицу и созвал государственный совет из бояр и высшего духовенства. <...> В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали. Царь как будто выпросил себе у государственного совета полицейскую диктатуру — своеобразная форма договора государя с народом!
Для расправы с изменниками и ослушниками царь предложил учредить опричнину. Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дьяками, всякими приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом. <...> На содержание этого двора, „на свой обиход“ и своих детей, царевичей Ивана и Федора, он выделил из своего государства до 20 городов с уездами и несколько отдельных волостей, в которых земли розданы были опричникам, а прежние землевладельцы выведены были из своих вотчин и поместий и получали земли в неопричных уездах. До 12 тысяч этих выселенцев зимой с семействами шли пешком из отнятых у них усадеб на отдаленные пустые поместья, им отведенные. <...> Царь спешил: не медля, <...> пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников своих опалы класть, а иных казнить, начав с ближайших сторонников беглого князя Курбского; в один <...> день шестеро из боярской знати были обезглавлены, а седьмой посажен на кол» [Ключевский II 1957. С. 174‒176].
Само слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «вне», «снаружи», «отдельно», «за пределами», «особый», «окроме» (т.е. «кроме»). «Опричниками» назывались государственные люди, составлявшие личную гвардию царя Иоанна IV и непосредственно осуществлявшие политику опричнины.
В.О. Ключевский писал: «Слово опричнина в XVI в. было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением особный двор. Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням-вдовам, в отличие от данных в пожизненное пользование, от прожитков. Опричнина царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора. Подобное учреждение возникло у нас позднее, в конце XVIII в., когда император Павел законом 5 апреля 1797 г. об императорской фамилии выделил „из государственных владений особые недвижимые имения“ в количестве свыше 460 тысяч душ крестьян мужского пола, состоявшие „в государственном исчислении под наименованием дворцовых волостей и деревень“ и получившие название удельных. Разница была лишь в том, что опричнина с дальнейшими присоединениями захватила чуть не половину всего государства, тогда как в удельное ведомство императора Павла вошла лишь ⅟₃₈ тогдашнего населения империи. Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину, как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства» [Ключевский II 1957. С. 177‒178].
Чтобы ввести опричнину, Иван Грозный разыграл перед народом целый кровавый спектакль: он оставил Москву и удалился в Александровскую слободу (позднее — уездный город Александров во Владимирской губернии), откуда через месяц «прислал в Москву две грамоты. В одной, описав беззакония боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр, на всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не радели, от врагов их не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них пред государем. И вот царь, гласила грамота, „от великой жалости сердца“, не стерпев всех этих измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему бог укажет. Это — как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе. Московскому простонародью, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них нет. Все замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государства. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство оборонять их от волков и хищных людей, а за государских изменников и лиходеев они не стоят и сами их истребят» [Ключевский II 1957. С. 174].
Вскоре царь, приняв «земское челобитие, согласился воротиться на царство, „паки взять свои государства“, но на условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 г., царь торжественно воротился в столицу и созвал государственный совет из бояр и высшего духовенства. <...> В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали. Царь как будто выпросил себе у государственного совета полицейскую диктатуру — своеобразная форма договора государя с народом!
Для расправы с изменниками и ослушниками царь предложил учредить опричнину. Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дьяками, всякими приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом. <...> На содержание этого двора, „на свой обиход“ и своих детей, царевичей Ивана и Федора, он выделил из своего государства до 20 городов с уездами и несколько отдельных волостей, в которых земли розданы были опричникам, а прежние землевладельцы выведены были из своих вотчин и поместий и получали земли в неопричных уездах. До 12 тысяч этих выселенцев зимой с семействами шли пешком из отнятых у них усадеб на отдаленные пустые поместья, им отведенные. <...> Царь спешил: не медля, <...> пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников своих опалы класть, а иных казнить, начав с ближайших сторонников беглого князя Курбского; в один <...> день шестеро из боярской знати были обезглавлены, а седьмой посажен на кол» [Ключевский II 1957. С. 174‒176].
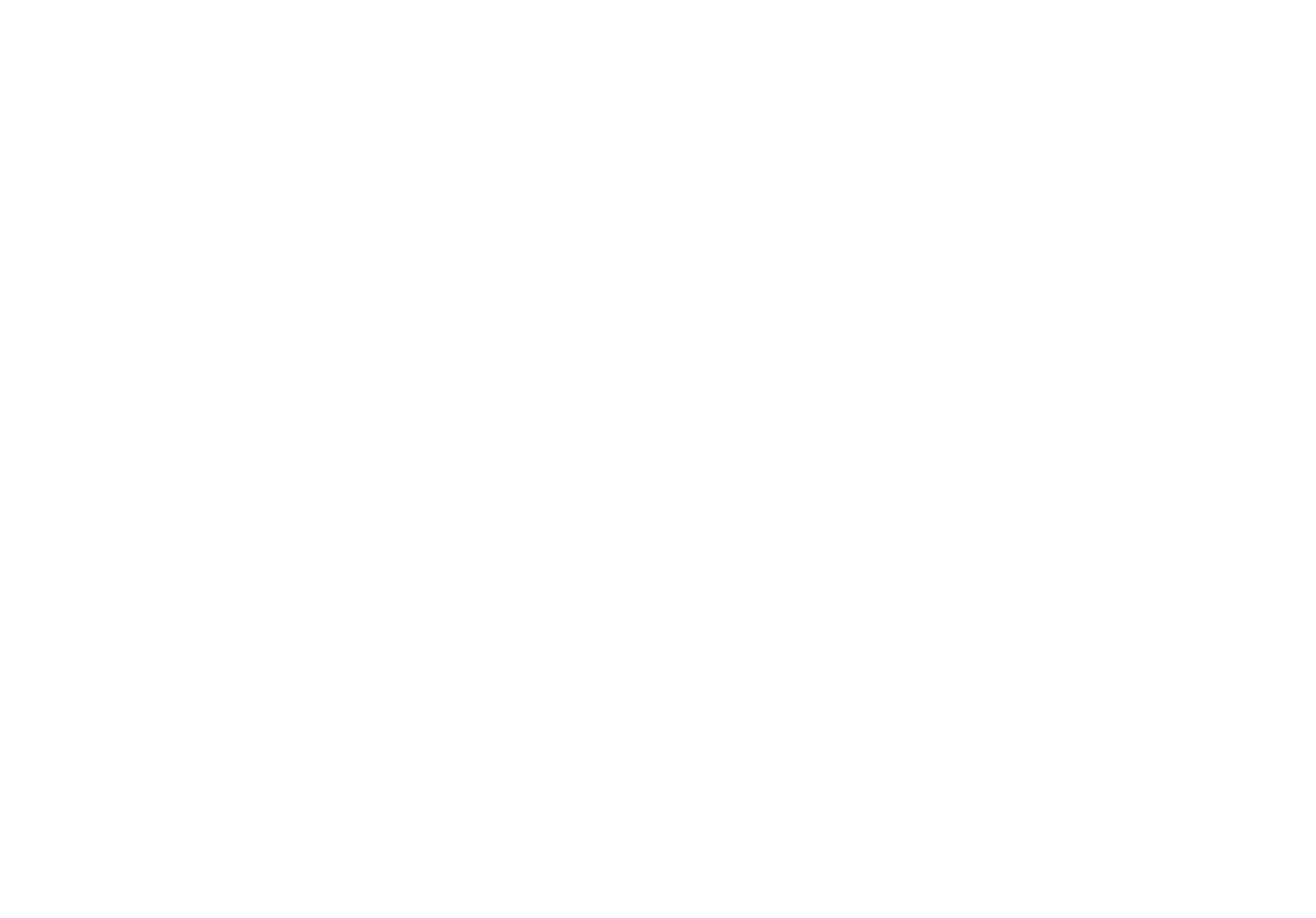
Подножие царского места Ивана Грозного в Успенском соборе Московского кремля, сделанное в виде зверя с высунутым языком (1551). [РДИ I 1962. С. 149]
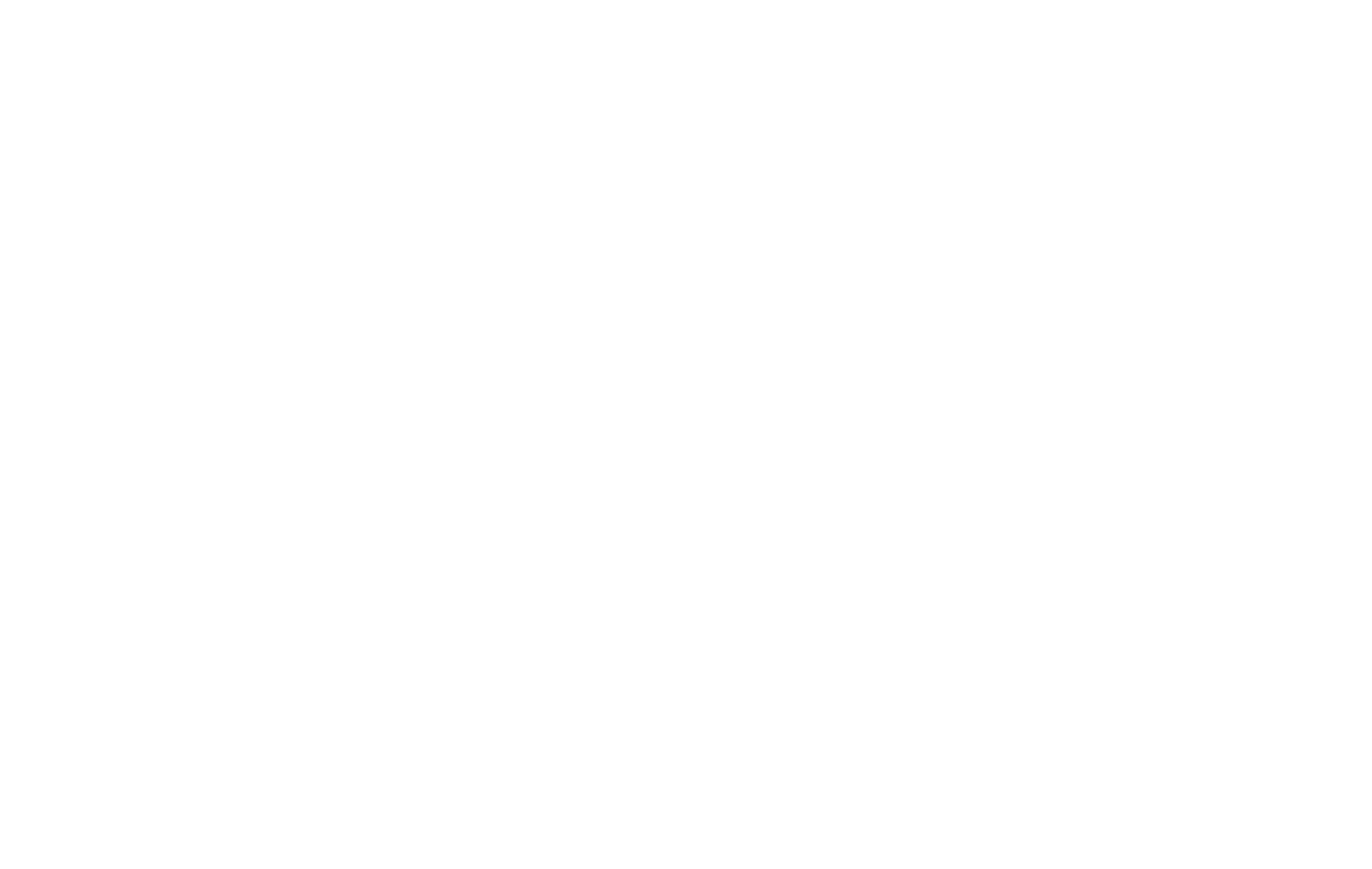
Опричник с собачьей головой (современное изображение)
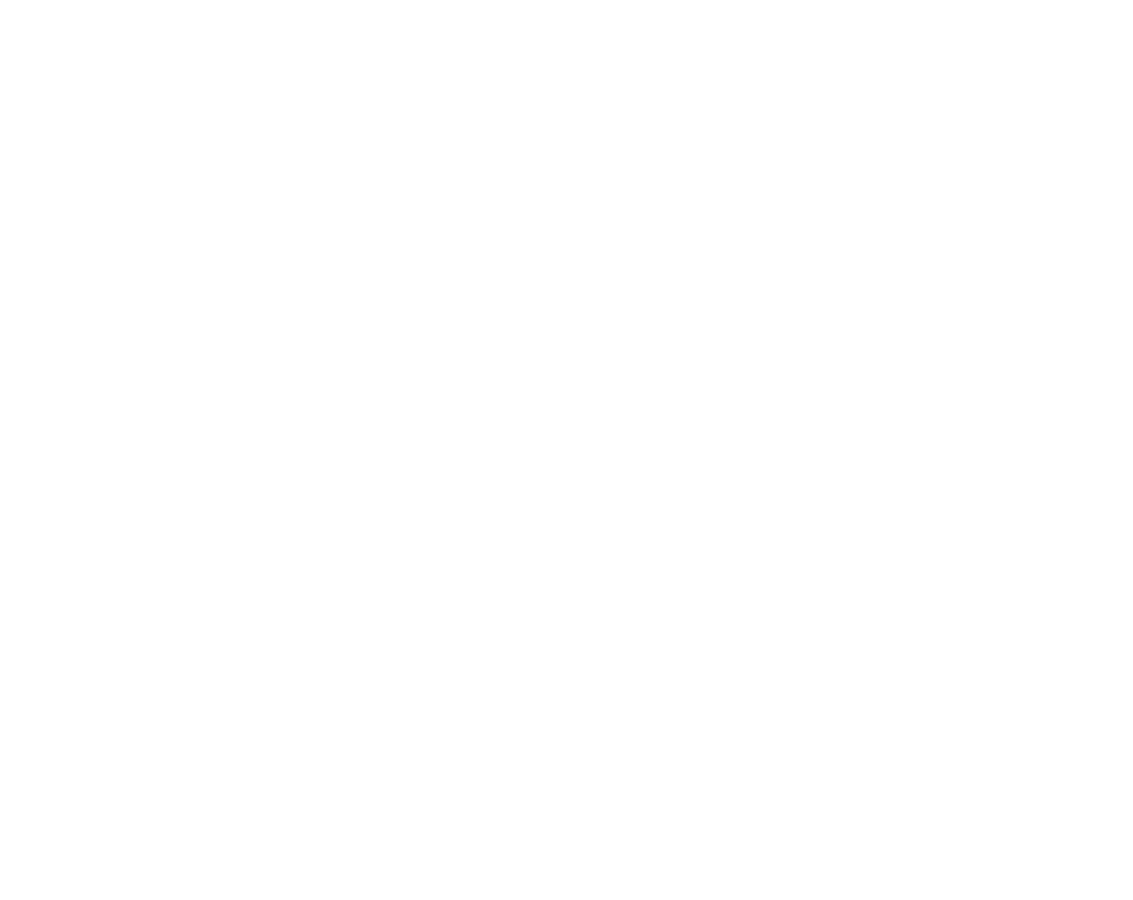
Опричник с картины С.Н. Ефошкина (2013)
Возможно, головы действительно были: «Послы были свидѣтелями, какъ онъ [Иван Грозный, — прим. В.] возвращался въ Москву изъ своего новгородскаго похода: онъ сидѣлъ на конѣ съ лукомъ за спиною, а къ шеѣ коня была привязана собачья голова; возлѣ него ѣхалъ шутъ на быкѣ. Какъ-бы желая опохмѣлиться отъ новгородской крови, онъ, во время пребыванiя пословъ, топилъ татарскихъ плѣнниковъ» [Костомаров I 1888. С. 484].
Впрочем, собаки знаменовали не только образ опричнины, но и эпоху правления грозного царя: «Тѣла казненныхъ лежали нѣсколько дней на площади, терзаемыя собаками» [Костомаров I 1888. С. 485].
И всё-таки, кажется, было бы ошибкой искать причины введения «опричнины» в России XVI в. исключительно в психопатологических наклонностях царя Иоанна IV.
Возможно, головы действительно были: «Послы были свидѣтелями, какъ онъ [Иван Грозный, — прим. В.] возвращался въ Москву изъ своего новгородскаго похода: онъ сидѣлъ на конѣ съ лукомъ за спиною, а къ шеѣ коня была привязана собачья голова; возлѣ него ѣхалъ шутъ на быкѣ. Какъ-бы желая опохмѣлиться отъ новгородской крови, онъ, во время пребыванiя пословъ, топилъ татарскихъ плѣнниковъ» [Костомаров I 1888. С. 484].
Впрочем, собаки знаменовали не только образ опричнины, но и эпоху правления грозного царя: «Тѣла казненныхъ лежали нѣсколько дней на площади, терзаемыя собаками» [Костомаров I 1888. С. 485].
И всё-таки, кажется, было бы ошибкой искать причины введения «опричнины» в России XVI в. исключительно в психопатологических наклонностях царя Иоанна IV.
