

Среди фигурирующих в русском фольклоре зверей волк — «один из центральных и наиболее мифологизированных персонажей. Ему присущ широкий круг разнообразных значений, многие из которых объединяют его с другими хищниками, а также с животными, наделенными хтонической символикой» [Гура 1997. С. 122]. «Наиболее распространена во всех славянских зонах легенда о том, что волк сотворен чертом против Бога (Македония, р-ны Охрида, Велеса; Болгария, р-ны Пирдопа, Самокова; Сербия, Крагуевацкий окр.; Польша, Катовицкое воев., пов. Клобуцк, Панки). <...> Но жизнь волк получил не от черта, а от Бога — черт не смог его оживить. Оживший волк кидается на черта, который пытается спастись на дереве, чаще всего ольхе или осине, и хватает его за ногу. С тех пор черт стал беспятым (правобережная Украина; Польша, Жешовское воев., Ропчице, совр. Тарновское воев., Заборув)» [Гура 1997. С. 122 - 123]. «Интересен <...> случай корреляции священника с волком в толковании сна: у поляков в районе Радома священник, увиденный во сне, предвещает волка, при том, что в разных славянских народных традициях священник чаще всего символизирует в этом случае черта, дьявола, сатану (у белорусов, украинцев, македонцев), реже — кражу или ссору (у поляков), смерть (у болгар), несчастье или различные огорчения и неприятности (у лужичан, поляков, украинцев)» [Гура 1997. С. 157‒158].
Ещё в начале XX в. от волков, как и от «нечистой силы», русские крестьяне надеялись уберечься, читая христианскую молитву «Оч҃е нашъ», которая, впрочем, использовалась ими более как магическое заклинание, призванное оберегать от злых духов, нежели как церковная молитва: «Пойдешь в лес — „Отче наш“ скажешь, так тебе никто не покажется. И скажу эту молитву — и иду, никого не боюсь. Вот матушка-то мне и говорит: „От если, Нюра, — говорит, — волк, вот увидишь волка, молитву скажешь ″Отче наш″ — волк тебя не тронет“ (Зап. от женщины, 1921 г.р., ур. д. Ивановской, в д. Гергиевское Георгиевского с/с Белозерского р-на Вологодской обл. 10.07.1995 г. Н.А. Славгородской, Е.В. Бажковой)» [МПСД II 2020. С. 41 (№ 87)].
Среди фигурирующих в русском фольклоре зверей волк — «один из центральных и наиболее мифологизированных персонажей. Ему присущ широкий круг разнообразных значений, многие из которых объединяют его с другими хищниками, а также с животными, наделенными хтонической символикой» [Гура 1997. С. 122]. «Наиболее распространена во всех славянских зонах легенда о том, что волк сотворен чертом против Бога (Македония, р-ны Охрида, Велеса; Болгария, р-ны Пирдопа, Самокова; Сербия, Крагуевацкий окр.; Польша, Катовицкое воев., пов. Клобуцк, Панки). <...> Но жизнь волк получил не от черта, а от Бога — черт не смог его оживить. Оживший волк кидается на черта, который пытается спастись на дереве, чаще всего ольхе или осине, и хватает его за ногу. С тех пор черт стал беспятым (правобережная Украина; Польша, Жешовское воев., Ропчице, совр. Тарновское воев., Заборув)» [Гура 1997. С. 122 - 123]. «Интересен <...> случай корреляции священника с волком в толковании сна: у поляков в районе Радома священник, увиденный во сне, предвещает волка, при том, что в разных славянских народных традициях священник чаще всего символизирует в этом случае черта, дьявола, сатану (у белорусов, украинцев, македонцев), реже — кражу или ссору (у поляков), смерть (у болгар), несчастье или различные огорчения и неприятности (у лужичан, поляков, украинцев)» [Гура 1997. С. 157‒158].
Ещё в начале XX в. от волков, как и от «нечистой силы», русские крестьяне надеялись уберечься, читая христианскую молитву «Оч҃е нашъ», которая, впрочем, использовалась ими более как магическое заклинание, призванное оберегать от злых духов, нежели как церковная молитва: «Пойдешь в лес — „Отче наш“ скажешь, так тебе никто не покажется. И скажу эту молитву — и иду, никого не боюсь. Вот матушка-то мне и говорит: „От если, Нюра, — говорит, — волк, вот увидишь волка, молитву скажешь ″Отче наш″ — волк тебя не тронет“ (Зап. от женщины, 1921 г.р., ур. д. Ивановской, в д. Гергиевское Георгиевского с/с Белозерского р-на Вологодской обл. 10.07.1995 г. Н.А. Славгородской, Е.В. Бажковой)» [МПСД II 2020. С. 41 (№ 87)].
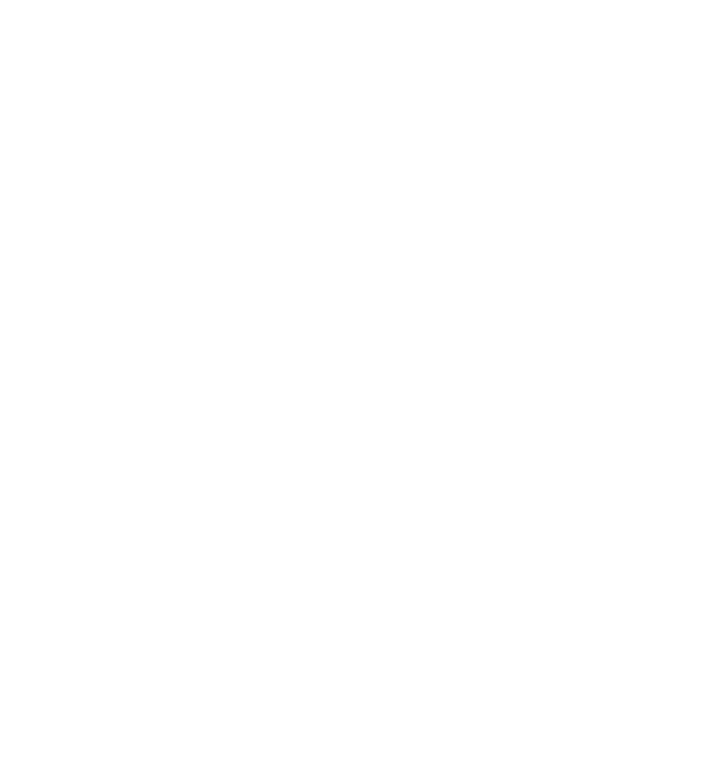
Демон в обличии волка. Житие св. Иоанна Богослова. Лицевая рукопись. XVII в. Л. 146 об. В житии рассказывается, как Иоанн пришёл в некий город, жители которого поклонялись демону в обличии волка. Апостол потребовал показать ему, где обитает это существо, и совершил обряд изгнания демона…
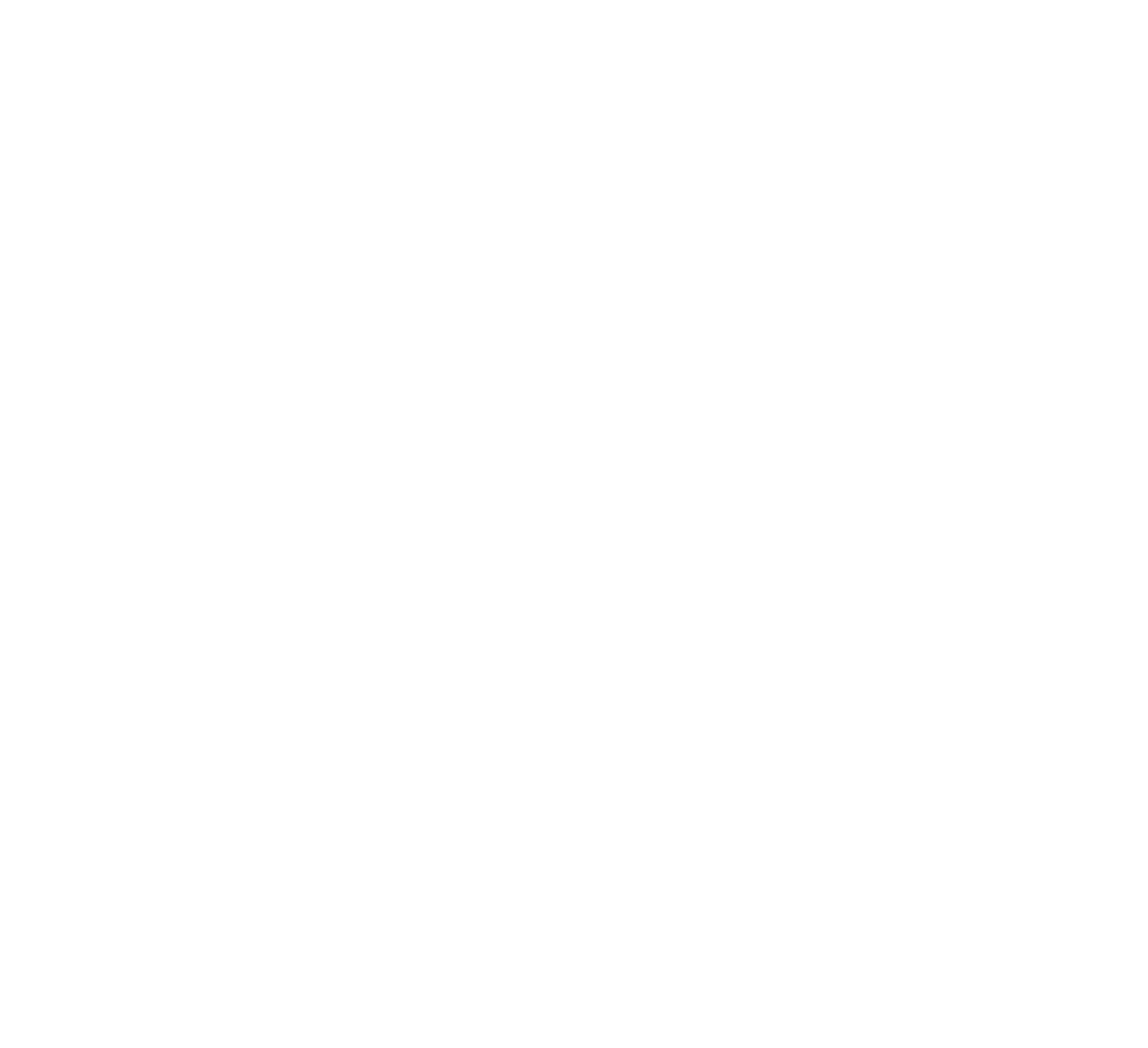
Иллюстрация из Синодика XVII в. (БАН. П. I. А. № 62. Л. 254) [Антонов 2018. С. 50]
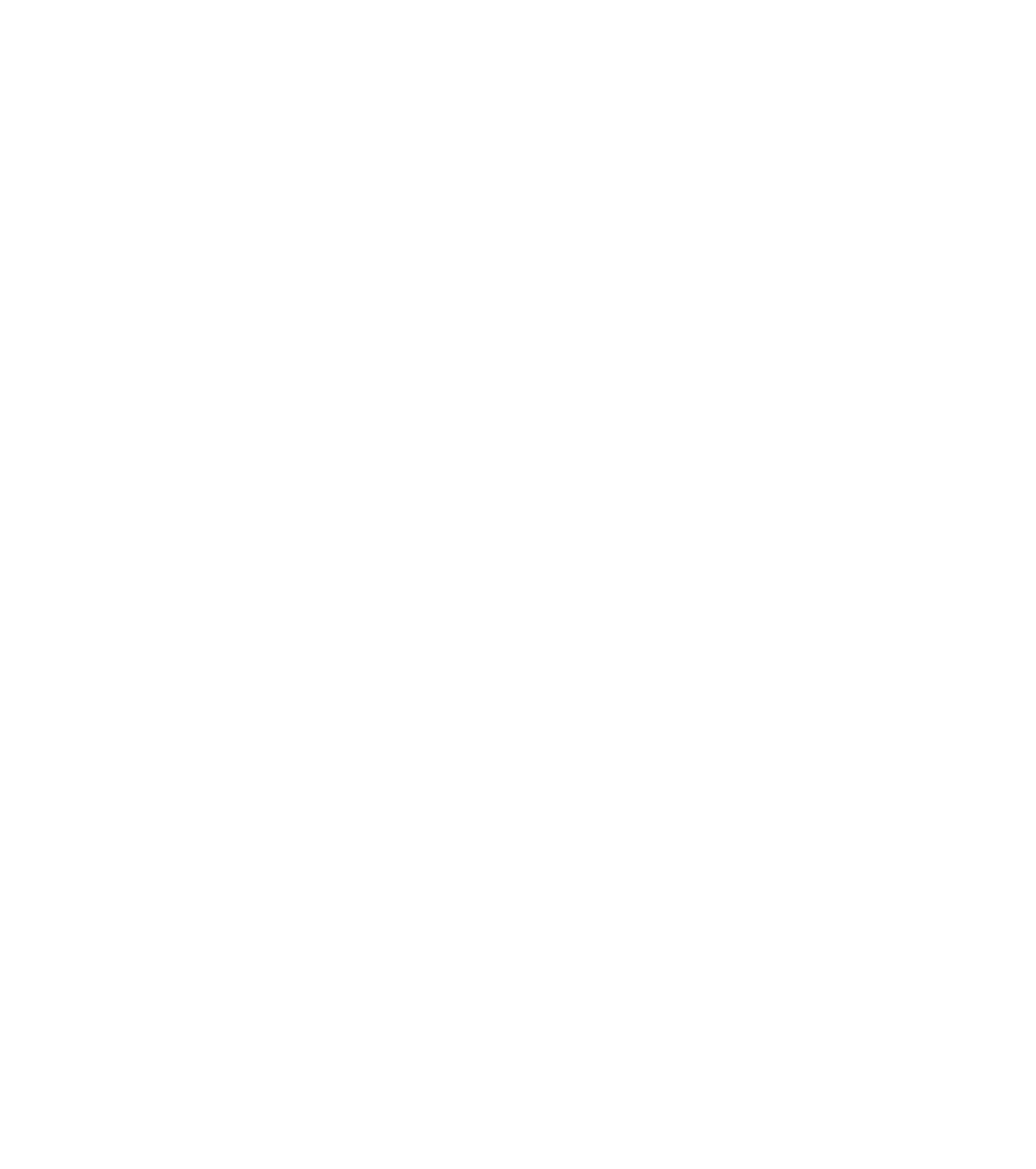
Миниатюра из старообрядческого сборника XIX в., хранящегося в частном музее Е. В. Ройзмана «Невьянская икона» в Екатеринбурге (Л. 59 об.)
Со звериными (собачьими, волчьими и др.) головами нередко изображались не только бесы, но и узники ада, еретики и т.п.: «Нередко узники ада в буквальном смысле теряют человеческие черты и сближаются со зверьми, как и демоны поздней иконографии. Такой прием активно применяется в Житии Василия Нового XVIII в., в цикле огромных (в лист) изображений, на которых осужденные горят в аду. У некоторых из них — собачьи и звериные головы, у других — гротескные, вытянутые до плеч уши, а у третьих — огромные ноздри на „коровьих“ головах. Дидактическое воздействие на читателя достигает предела, за которым страх рискует перейти в праздное любопытство.
Волосатые тела и зооморфные элементы часто появляются на изображениях иудеев и еретиков. Интересный пример можно увидеть на 193-м листе в лицевом Житии Василия Нового, хранящемся в РГБ [Российской государственной библиотеке в Москве, — прим. В.]. На уступе стоят люди со звериными, похожими на собачьи, головами, в длинных одеждах. Из их ртов вылетают брызги. Звериные головы покрыты пучками вздыбленных волос. Левее одна из таких фигур падает в огненное „море“: на ее шее — цепь, которую держат два ангела (подпись: „агг҃ли возложиша зєлєза тѧжка“). Внизу, в огне, выстроились пять крупных человеческих голов — их волосы стоят дыбом и зрительно перекликаются с языками пламени, бушующего вокруг. Зубы этих персонажей оскалены, а у крайнего справа видно крыло, подобное ангельскому. В левом верхнем углу восседает Христос-судия.
Со звериными (собачьими, волчьими и др.) головами нередко изображались не только бесы, но и узники ада, еретики и т.п.: «Нередко узники ада в буквальном смысле теряют человеческие черты и сближаются со зверьми, как и демоны поздней иконографии. Такой прием активно применяется в Житии Василия Нового XVIII в., в цикле огромных (в лист) изображений, на которых осужденные горят в аду. У некоторых из них — собачьи и звериные головы, у других — гротескные, вытянутые до плеч уши, а у третьих — огромные ноздри на „коровьих“ головах. Дидактическое воздействие на читателя достигает предела, за которым страх рискует перейти в праздное любопытство.
Волосатые тела и зооморфные элементы часто появляются на изображениях иудеев и еретиков. Интересный пример можно увидеть на 193-м листе в лицевом Житии Василия Нового, хранящемся в РГБ [Российской государственной библиотеке в Москве, — прим. В.]. На уступе стоят люди со звериными, похожими на собачьи, головами, в длинных одеждах. Из их ртов вылетают брызги. Звериные головы покрыты пучками вздыбленных волос. Левее одна из таких фигур падает в огненное „море“: на ее шее — цепь, которую держат два ангела (подпись: „агг҃ли возложиша зєлєза тѧжка“). Внизу, в огне, выстроились пять крупных человеческих голов — их волосы стоят дыбом и зрительно перекликаются с языками пламени, бушующего вокруг. Зубы этих персонажей оскалены, а у крайнего справа видно крыло, подобное ангельскому. В левом верхнем углу восседает Христос-судия.
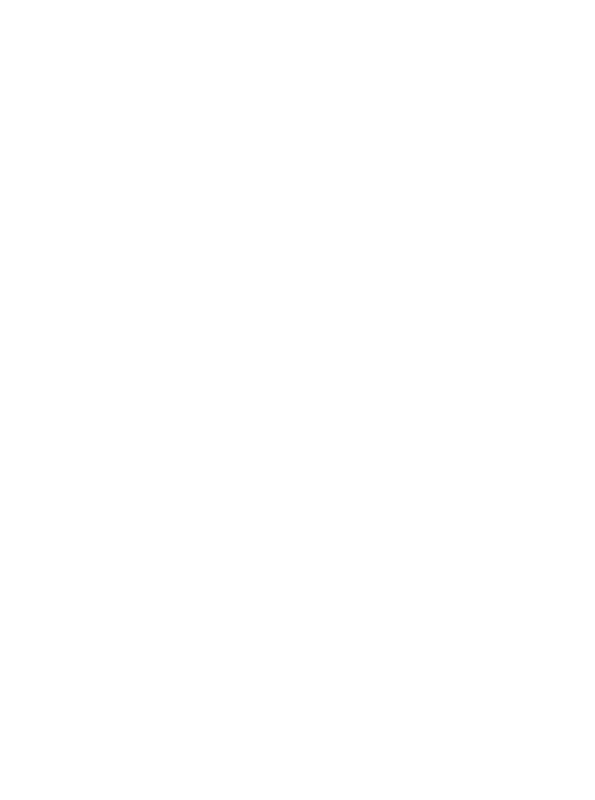
Арий и его «собор» на Страшном суде: еретики превращаются в монстров, утративших человеческий облик. Миниатюра из Жития Василия Нового XVIII в. (РГБ. Ф. 98. № 375. Л. 193 об.) [Антонов-Майзульс 2011. С. 265]
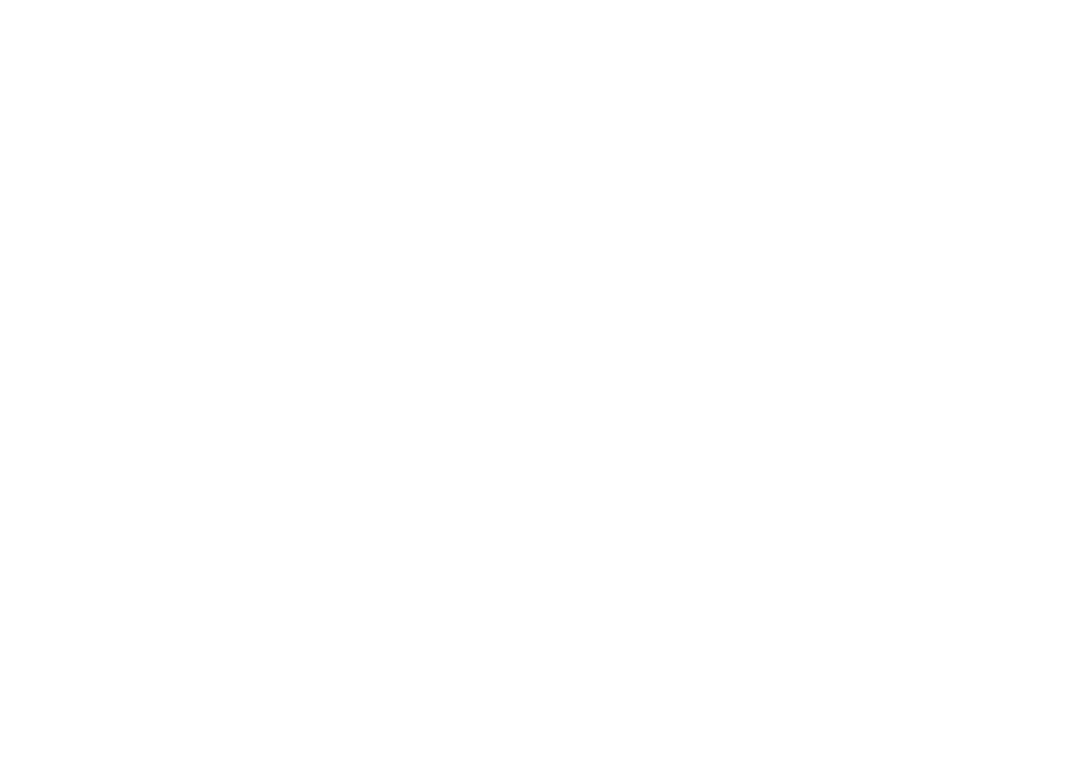
Миниатюры из Апокалипсиса (XVII в.) и из Жития Нифонта Констанцского (сер. XVI в.) [Антонов-Майзульс 2011. Илл. VIII, XV (на цветной вклейке)]
В традиционной славянской культуре образ волка во многом сакрален, так как несёт в себе черты представителя иного мира, однако в христианстве эта сакральность оказалась расщеплённой на «божественное» и «демоническое», обусловив вышеупомянутую амбивалентность образа волка в народной культуре эпохи двоеверия ( «Названiе двоевѣрiя получило религiозное состоянiе, при которомъ христiанскiя представленiя мирно уживаются рядомъ съ языческими» [Познанский 1917. С. 118]): «С одной стороны, нечистая сила пожирает волков: пригоняет их к человеческому жилью, чтобы поживиться волчьей падалью (Вятская губ.), дьявол ежегодно таскает себе по одному волку (Минская губ., Пинский у.). Vlk — эвфемистическое название черта у чехов (зап. Чехия), у поляков встречается поверье об обращении дьявола в волка (совр. Влоцлавское воев., пов. Рыпин, Щутово), с дьяволом, злым духом соотносят волка некоторые македонские фольклорные тексты (р-н Скопья). Волк знается с нечистой силой (Вятская губ., Слободской у., Совьинское). <...> Волк — чертов конь, и на нем часто ездит ведьма, кума черта (Серадзское воев., Здуньска Воля). Ведьма может оборачиваться волком (Люблинское воев., Кошалинское воев., пов. Слупск, Объязда). Ведьма может наслать волков на дом в первый день Рождества (гуцулы), колдуны насылают их на скотину (Россия)» и т.д. [Гура 1997. С. 128‒129]. «С другой стороны, волки уничтожают или устрашают нечистую силу: черт боится волка (Сербия), волки истребляют, поедают чертей, чтобы они меньше плодились (Украина, Киевская губ., Подольская губ., Литинский у.; Белоруссия, Польша). Как считают русские казаки, волки делают это по велению Бога. Волки отпугивают, раздирают и уничтожают вампиров, мертвецов, пьющих кровь и душащих людей и скотину (Благоевградский окр., Габрене). Поэтому при упоминании вампира добавляют: „Вълци го яли“ [Волки б его ели] (Болгария)» и т.д. [Гура 1997. С. 129].
В хорватской сказке крестьяне, не без доли лукавства, предлагают попу «окрестить» волка, случайно забежавшего в церковь: «Зашел как-то волк в деревню, где он раньше никогда не бывал. Все перепугались и переполошились больше, чем если бы сто гайдуков нагрянули. Собрались все с кольями да с камнями — другого-то оружия не было — и погнались за волком. Волк струсил и, не зная, куда ему деваться, побежал по улице прямо к церкви, — а она была открыта, потому что поп служил обедню. Волк со страха принял церковь за пещеру и забежал туда. Мальчик-служка закричал: „Батюшка! Батюшка! Ей-богу, волк прибежал съесть нас!“ — и бросился в алтарь к священнику и заперся. В это время и крестьяне добежали до церкви и как увидели, что волк туда заскочил, заперли церковные двери и закричали:
— Ага, попался!
А священник и причетник вопят из алтаря:
— Вам-то хорошо на воле, а нам-то каково в церкви!
Крестьяне отвечают:
— Ей-богу, батюшка, он сам вбежал. С тобой ведь служка и все, что надо для крещения. Ну и окрестите волка, а коли не хотите, то и сговаривайтесь с ним, как знаете» (пер. с серб.-хорв. М. Волконского) [СНЮ 1991. С. 389].
В традиционной славянской культуре образ волка во многом сакрален, так как несёт в себе черты представителя иного мира, однако в христианстве эта сакральность оказалась расщеплённой на «божественное» и «демоническое», обусловив вышеупомянутую амбивалентность образа волка в народной культуре эпохи двоеверия ( «Названiе двоевѣрiя получило религiозное состоянiе, при которомъ христiанскiя представленiя мирно уживаются рядомъ съ языческими» [Познанский 1917. С. 118]): «С одной стороны, нечистая сила пожирает волков: пригоняет их к человеческому жилью, чтобы поживиться волчьей падалью (Вятская губ.), дьявол ежегодно таскает себе по одному волку (Минская губ., Пинский у.). Vlk — эвфемистическое название черта у чехов (зап. Чехия), у поляков встречается поверье об обращении дьявола в волка (совр. Влоцлавское воев., пов. Рыпин, Щутово), с дьяволом, злым духом соотносят волка некоторые македонские фольклорные тексты (р-н Скопья). Волк знается с нечистой силой (Вятская губ., Слободской у., Совьинское). <...> Волк — чертов конь, и на нем часто ездит ведьма, кума черта (Серадзское воев., Здуньска Воля). Ведьма может оборачиваться волком (Люблинское воев., Кошалинское воев., пов. Слупск, Объязда). Ведьма может наслать волков на дом в первый день Рождества (гуцулы), колдуны насылают их на скотину (Россия)» и т.д. [Гура 1997. С. 128‒129]. «С другой стороны, волки уничтожают или устрашают нечистую силу: черт боится волка (Сербия), волки истребляют, поедают чертей, чтобы они меньше плодились (Украина, Киевская губ., Подольская губ., Литинский у.; Белоруссия, Польша). Как считают русские казаки, волки делают это по велению Бога. Волки отпугивают, раздирают и уничтожают вампиров, мертвецов, пьющих кровь и душащих людей и скотину (Благоевградский окр., Габрене). Поэтому при упоминании вампира добавляют: „Вълци го яли“ [Волки б его ели] (Болгария)» и т.д. [Гура 1997. С. 129].
В хорватской сказке крестьяне, не без доли лукавства, предлагают попу «окрестить» волка, случайно забежавшего в церковь: «Зашел как-то волк в деревню, где он раньше никогда не бывал. Все перепугались и переполошились больше, чем если бы сто гайдуков нагрянули. Собрались все с кольями да с камнями — другого-то оружия не было — и погнались за волком. Волк струсил и, не зная, куда ему деваться, побежал по улице прямо к церкви, — а она была открыта, потому что поп служил обедню. Волк со страха принял церковь за пещеру и забежал туда. Мальчик-служка закричал: „Батюшка! Батюшка! Ей-богу, волк прибежал съесть нас!“ — и бросился в алтарь к священнику и заперся. В это время и крестьяне добежали до церкви и как увидели, что волк туда заскочил, заперли церковные двери и закричали:
— Ага, попался!
А священник и причетник вопят из алтаря:
— Вам-то хорошо на воле, а нам-то каково в церкви!
Крестьяне отвечают:
— Ей-богу, батюшка, он сам вбежал. С тобой ведь служка и все, что надо для крещения. Ну и окрестите волка, а коли не хотите, то и сговаривайтесь с ним, как знаете» (пер. с серб.-хорв. М. Волконского) [СНЮ 1991. С. 389].
Рассматривая образ волка в народной культуре южных славян, А.Б. Мороз замечает: «С целым рядом животных в народной культуре связаны различные мифологические представления. Среди них волк занимает, пожалуй, особое место по числу и многообразию верований, создающих его мифологический образ. Будучи животным, с которым человек сталкивается наиболее часто и представляющим для него реальную опасность, обитая в лесу, традиционно воспринимаемом как „чужое“ пространство, населенное различными демонами, волк также осмысляется как демонологический персонаж, а взаимоотношения человека с ним регламентируются многочисленными обрядами и верованиями» [Мороз 2000. С. 78].
Основное отличие волка от домашней собаки в народной культуре заключается в том, что собака, в целом, оказывается ближе к миру живых людей, тогда как волк — к миру иному, где, говоря словами заговора, обнаруженного в конце XVIII в. у Алексея Агеева, пономаря из Псковской губернии: «Собаки не лаютъ, пеуны не поютъ» [Михайлова 2018. С. 47]. Такими же чертами «иномирья» обладает остров Буян из русского фольклора: «На морѣ, на Окiянѣ, на островѣ на Буянѣ, тамъ люди не ходятъ, птицы не летаютъ» [Майков 1869. С. 33 (№ 57)]. Из мира живых в мир иной знахари отправляют болезни: «пойди, грыжа, съ дресвяна камени на пустое мѣсто, въ темное мѣсто, гдѣ солнце не огрѣваетъ, гдѣ люди не ходятъ и не бываютъ, гдѣ птицы не летаютъ, гдѣ звѣри не заходятъ» [Майков 1869. С. 57 (№ 128)]. И т.п.
О.В. Белова, анализируя представления об этнических соседях в славянской народной культуре, заметила, что образ «чужого» в народных представлениях «может быть описан при помощи стандартной схемы. Выделяется ряд ключевых позиций, по которым „опознается“ чужой среди своих:
• внешность,
• запах,
• отсутствие души,
• сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и колдовству);
• „неправильное“ с точки зрения носителя местной традиции поведение (обусловленное „чужими“ и, следовательно, неправильными, греховными, демоническими ритуалами и обычаями),
• язык.
С помощью этих признаков может быть составлен достаточно исчерпывающий фольклорно-мифологический портрет „чужого“» [Белова 2002. С. 71].
Хотя в приведённой выше цитате речь идёт о фольклорных признаках инородцев, данная схема во многом подходит и для описания «чужих» нечеловеческой природы, то есть некоторых зверей (наподобие волка) или духов-выходцев из иного мира.
Рассматривая образ волка в народной культуре южных славян, А.Б. Мороз замечает: «С целым рядом животных в народной культуре связаны различные мифологические представления. Среди них волк занимает, пожалуй, особое место по числу и многообразию верований, создающих его мифологический образ. Будучи животным, с которым человек сталкивается наиболее часто и представляющим для него реальную опасность, обитая в лесу, традиционно воспринимаемом как „чужое“ пространство, населенное различными демонами, волк также осмысляется как демонологический персонаж, а взаимоотношения человека с ним регламентируются многочисленными обрядами и верованиями» [Мороз 2000. С. 78].
Основное отличие волка от домашней собаки в народной культуре заключается в том, что собака, в целом, оказывается ближе к миру живых людей, тогда как волк — к миру иному, где, говоря словами заговора, обнаруженного в конце XVIII в. у Алексея Агеева, пономаря из Псковской губернии: «Собаки не лаютъ, пеуны не поютъ» [Михайлова 2018. С. 47]. Такими же чертами «иномирья» обладает остров Буян из русского фольклора: «На морѣ, на Окiянѣ, на островѣ на Буянѣ, тамъ люди не ходятъ, птицы не летаютъ» [Майков 1869. С. 33 (№ 57)]. Из мира живых в мир иной знахари отправляют болезни: «пойди, грыжа, съ дресвяна камени на пустое мѣсто, въ темное мѣсто, гдѣ солнце не огрѣваетъ, гдѣ люди не ходятъ и не бываютъ, гдѣ птицы не летаютъ, гдѣ звѣри не заходятъ» [Майков 1869. С. 57 (№ 128)]. И т.п.
О.В. Белова, анализируя представления об этнических соседях в славянской народной культуре, заметила, что образ «чужого» в народных представлениях «может быть описан при помощи стандартной схемы. Выделяется ряд ключевых позиций, по которым „опознается“ чужой среди своих:
• внешность,
• запах,
• отсутствие души,
• сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и колдовству);
• „неправильное“ с точки зрения носителя местной традиции поведение (обусловленное „чужими“ и, следовательно, неправильными, греховными, демоническими ритуалами и обычаями),
• язык.
С помощью этих признаков может быть составлен достаточно исчерпывающий фольклорно-мифологический портрет „чужого“» [Белова 2002. С. 71].
Хотя в приведённой выше цитате речь идёт о фольклорных признаках инородцев, данная схема во многом подходит и для описания «чужих» нечеловеческой природы, то есть некоторых зверей (наподобие волка) или духов-выходцев из иного мира.
Ср. у А.С. Пушкина в «Истории Пугачёва» (1834): «Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астраханским и саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале семнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под покровительство белого царя» [Пушкин IX/1 1938. С. 10].
Согласно исследованиям доктора филологических наук, профессора Б.А. Успенского, первая фиксация названия «Белый царь», как специфического наименования московского государя в письменном источнике, обнаруживается в датируемой 1447—1448 гг. «Повести» Симеона Суздальца, где это словосочетание применено к Василию Тёмному, о котором говорится как о «благоверном <...> и благочестивом истинно православном великом князе Василии Василиевиче, белом царе всеа Русии» [Успенский I 1996. С. 389]. По мнению исследователя: «Это наименование русского монарха имеет явные сакральные коннотации. Оно соответствует фольклорному образу Белого царя в стихе о Голубиной книге, в котором отразилось, по-видимому, представление об апокрифическом пресвитере Иоанне. Ср.: „У насъ Бѣлой царь надъ царямы царь. / Почему тотъ царь надъ царямы царь? / У нашего царя у Бѣлаго / Есть святая вѣра христiанская, / Его рука всихъ выше царская / Надо всей землей надъ вселенныя: / Потому тотъ царь надъ царямы царь“ [уточнено и исправлено по изд.: Бессонов 1861. С. 294‒295 (№ 81)].
При этом образ Белого царя может эксплицитно связываться в стихе о Голубиной книге с образом Святой Руси» [Успенский I 1996. С. 389‒390].
Не является ли Белый волк — «царь» всех волков в русском фольклоре — зооморфным образом Хозяина зверей, архаического Божества леса и дикой природы, или, по крайней мере, одним из его ликов — мифопоэтических олицетворений в народной культуре, наравне с медведем? Касательно последнего — ср., например, ритуальный диалог дружки и представителя невесты в ходе нижневычегодского (бассейн р. Нижняя Вычегда) свадебного обряда, удивительным образом напоминающий вопросы и ответы из стиха о «Голубиной книге»: «Какой зверь над зверями зверь? — Медведь» [РСП 2021. С. 119].
Вероятно, представление о «царственной» роли медведя восходит ещё к индоевропейской общности. Не случайно Якоб Гримм называл одной из черт германского фольклора «приписыванiе царской власти среди животныхъ медвѣдю, которая на первыхъ порахъ принадлежала исключительно ему, а не льву» [Колмачевский 1882. С. 3].
Ср. у А.С. Пушкина в «Истории Пугачёва» (1834): «Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астраханским и саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале семнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под покровительство белого царя» [Пушкин IX/1 1938. С. 10].
Согласно исследованиям доктора филологических наук, профессора Б.А. Успенского, первая фиксация названия «Белый царь», как специфического наименования московского государя в письменном источнике, обнаруживается в датируемой 1447—1448 гг. «Повести» Симеона Суздальца, где это словосочетание применено к Василию Тёмному, о котором говорится как о «благоверном <...> и благочестивом истинно православном великом князе Василии Василиевиче, белом царе всеа Русии» [Успенский I 1996. С. 389]. По мнению исследователя: «Это наименование русского монарха имеет явные сакральные коннотации. Оно соответствует фольклорному образу Белого царя в стихе о Голубиной книге, в котором отразилось, по-видимому, представление об апокрифическом пресвитере Иоанне. Ср.: „У насъ Бѣлой царь надъ царямы царь. / Почему тотъ царь надъ царямы царь? / У нашего царя у Бѣлаго / Есть святая вѣра христiанская, / Его рука всихъ выше царская / Надо всей землей надъ вселенныя: / Потому тотъ царь надъ царямы царь“ [уточнено и исправлено по изд.: Бессонов 1861. С. 294‒295 (№ 81)].
При этом образ Белого царя может эксплицитно связываться в стихе о Голубиной книге с образом Святой Руси» [Успенский I 1996. С. 389‒390].
Не является ли Белый волк — «царь» всех волков в русском фольклоре — зооморфным образом Хозяина зверей, архаического Божества леса и дикой природы, или, по крайней мере, одним из его ликов — мифопоэтических олицетворений в народной культуре, наравне с медведем? Касательно последнего — ср., например, ритуальный диалог дружки и представителя невесты в ходе нижневычегодского (бассейн р. Нижняя Вычегда) свадебного обряда, удивительным образом напоминающий вопросы и ответы из стиха о «Голубиной книге»: «Какой зверь над зверями зверь? — Медведь» [РСП 2021. С. 119].
Вероятно, представление о «царственной» роли медведя восходит ещё к индоевропейской общности. Не случайно Якоб Гримм называл одной из черт германского фольклора «приписыванiе царской власти среди животныхъ медвѣдю, которая на первыхъ порахъ принадлежала исключительно ему, а не льву» [Колмачевский 1882. С. 3].
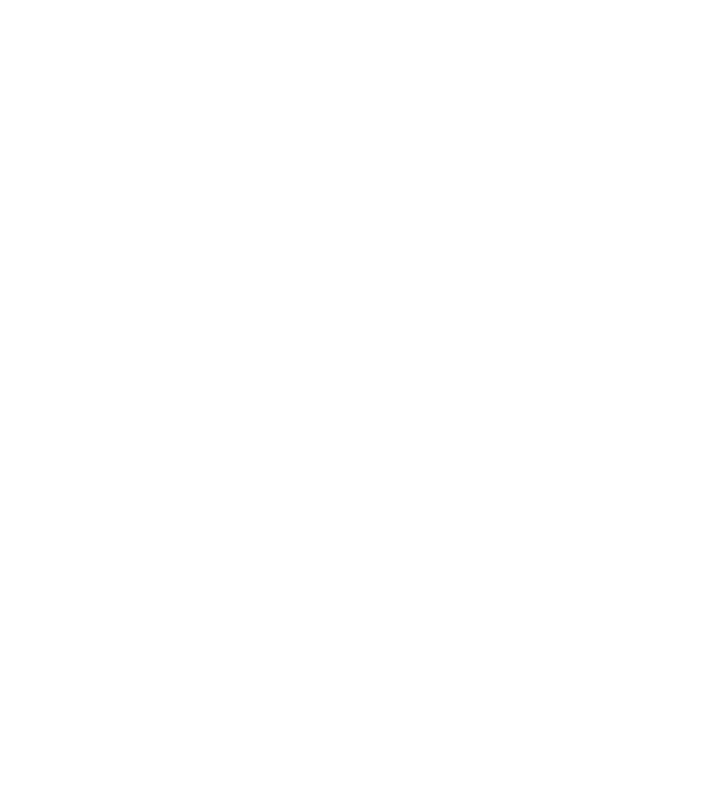
Медведь, пожирающий монаха. Из рукописного Синодика XVII в.
Возможно, не случайно в знаменитом случае «Человека-Волка» (нем. der Wolfsmann) из медицинской практики Зигмунда Фрейда [Фрейд 2023] образ белых волков из сна пациента (которым, кстати, был наш соотечественник, выходец из семьи богатых землевладельцев юга Российской империи, С.К. Панкеев) интерпретировался в связи с фигурой отца (ср. символизм фигуры предводителя, сакрального правителя, царя — как «отца» своих подданных).
Возможно, не случайно в знаменитом случае «Человека-Волка» (нем. der Wolfsmann) из медицинской практики Зигмунда Фрейда [Фрейд 2023] образ белых волков из сна пациента (которым, кстати, был наш соотечественник, выходец из семьи богатых землевладельцев юга Российской империи, С.К. Панкеев) интерпретировался в связи с фигурой отца (ср. символизм фигуры предводителя, сакрального правителя, царя — как «отца» своих подданных).
Эпитет волка в народной культуре — „чужой“, „другой“. Как ни странно, это указывало на близость: волка воспринимали не как животное, а как человека, но из „чужого“ племени. Чтобы понять смысл этой чуждости, надо посмотреть, кого из людей называли волками. В свадебных причитаниях невеста, оплакивая вольную девичью жизнь, звала „серыми волками“ друзей жениха, да и самого жениха сравнивали с волком, рыщущим в поисках добычи. И напротив, на свадебном пиру (то есть в доме жениха) волками нарекали родню невесты, а ее саму в свадебных песнях именовали волчицей. Подобное явление хорошо известно исследователям древних языков: когда понятие „другой“ отражает весь спектр отношений — от друга до врага. Именно такими „другими“ в племенной древности и являлись члены „волчьих братств“, представления о которых сохранились в „Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях“ Пушкина» [Баркова 2022. С. 27‒28].
Эпитет волка в народной культуре — „чужой“, „другой“. Как ни странно, это указывало на близость: волка воспринимали не как животное, а как человека, но из „чужого“ племени. Чтобы понять смысл этой чуждости, надо посмотреть, кого из людей называли волками. В свадебных причитаниях невеста, оплакивая вольную девичью жизнь, звала „серыми волками“ друзей жениха, да и самого жениха сравнивали с волком, рыщущим в поисках добычи. И напротив, на свадебном пиру (то есть в доме жениха) волками нарекали родню невесты, а ее саму в свадебных песнях именовали волчицей. Подобное явление хорошо известно исследователям древних языков: когда понятие „другой“ отражает весь спектр отношений — от друга до врага. Именно такими „другими“ в племенной древности и являлись члены „волчьих братств“, представления о которых сохранились в „Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях“ Пушкина» [Баркова 2022. С. 27‒28].
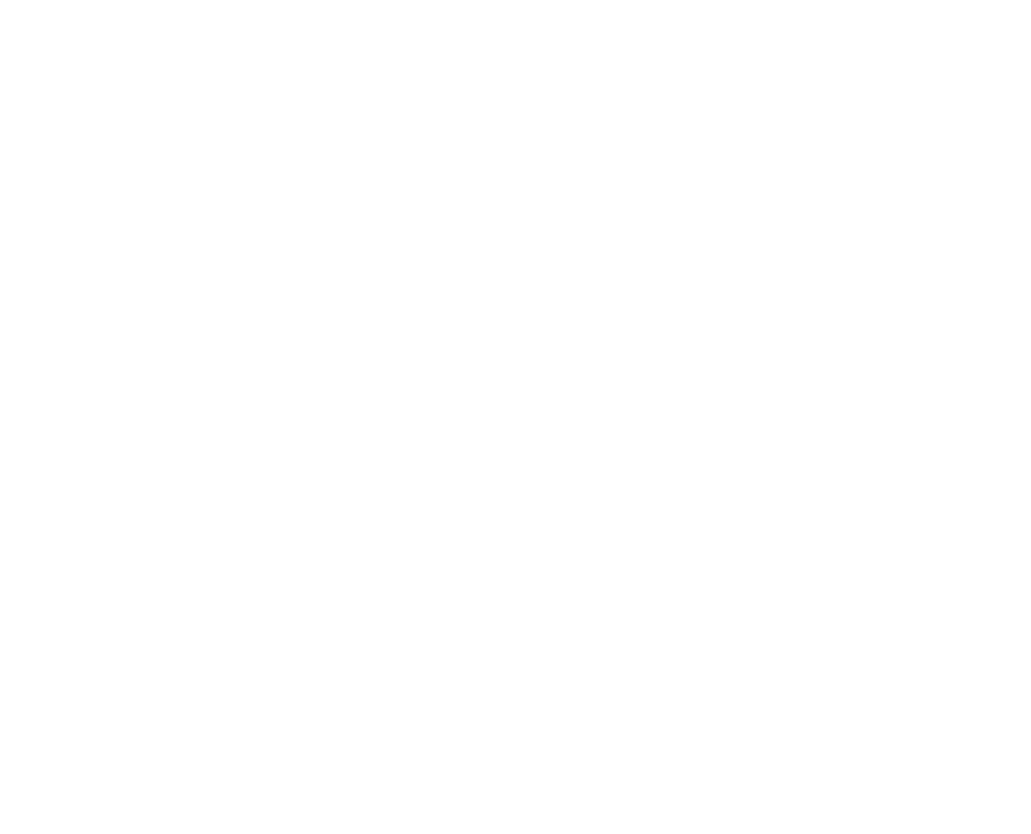
Волк из «Физиолога» Дамаскина Студита (по рукописи XVII в.)
Показательна связь волка со свадебной обрядовостью. В Боснии сватов или особую группу людей, которые приходят на свадьбу и устраивают разнообразные бесчинства, называли вукови. Они продолжали бесчинствовать, пока не получали вознаграждения. Эти же вукови во время брачной ночи ходили вокруг комнаты, где спали молодые, стучали в двери и кричали: „Около, вуче, чувај младу! Момче, чувај овцу, да ти је вуци не изију!“ В Мотнике (Словения) про разладившуюся помолвку говорили: „Je šel volk skuz“. <...>
Параллель волк/человек видна и в том, что волку приписываются некоторые человеческие свойства: в Сербии верят, что волк любит музыку (Урошевац) и боится змей. У племени Кучи [черног. Kuči — славянское племя, живущее в восточной части Черногории, — прим. В.] считается, что от волка можно спастись, побратавшись с ним. В Урошевце также в целях безопасности можно было побрататься с волком, сказав: „Побратиме, уклони ми се с пута“. В ряде сербских пословиц о волке говорится как о человеке <...>.
Рассмотренные верования и обряды показывают как бы двойственную сущность волка, который сочетает в себе демонические и человеческие черты. Эта особенность, а также контакты волка с загробным миром могут указывать на связь волка с душами предков» [Мороз 2000. С. 83‒84].
Показательна связь волка со свадебной обрядовостью. В Боснии сватов или особую группу людей, которые приходят на свадьбу и устраивают разнообразные бесчинства, называли вукови. Они продолжали бесчинствовать, пока не получали вознаграждения. Эти же вукови во время брачной ночи ходили вокруг комнаты, где спали молодые, стучали в двери и кричали: „Около, вуче, чувај младу! Момче, чувај овцу, да ти је вуци не изију!“ В Мотнике (Словения) про разладившуюся помолвку говорили: „Je šel volk skuz“. <...>
Параллель волк/человек видна и в том, что волку приписываются некоторые человеческие свойства: в Сербии верят, что волк любит музыку (Урошевац) и боится змей. У племени Кучи [черног. Kuči — славянское племя, живущее в восточной части Черногории, — прим. В.] считается, что от волка можно спастись, побратавшись с ним. В Урошевце также в целях безопасности можно было побрататься с волком, сказав: „Побратиме, уклони ми се с пута“. В ряде сербских пословиц о волке говорится как о человеке <...>.
Рассмотренные верования и обряды показывают как бы двойственную сущность волка, который сочетает в себе демонические и человеческие черты. Эта особенность, а также контакты волка с загробным миром могут указывать на связь волка с душами предков» [Мороз 2000. С. 83‒84].
Тем не менее, согласно славянским верованиям, именно предки могли защитить человека от встретившегося ему волка: «Имена П[редков] в качестве оберега выкрикивали при встрече с волком (полес.)» [Левкиевская 2009. С. 250]. Ср. также: «В Полесье при встрече с волком призывают к себе умерших, называют их по имени (Гомельская обл., Ветковский р-н, Присно, зап. А.Л. Топоркова), гукаюць мёртвага (Гомельская обл., Речицкий р-н, Молодуша), вспоминают его (Киевская обл., Чернобыльский р-н, Копачи, зап. О.Б. Шаталовой), зовут знакомого умершего охотника (Гомельская обл., Ветковский р-н, Большие Немки, зап. Э.А. Акулина), называют имена троих покойных предков — „сваих радителяў мяртвы́х тры чалавеки“ (Чнрниговская обл., Городнянский р-н, Хоробичи, зап. автора). Время разгула волков у поляков Хелмского воев. связано с днем Всех святых (1.XI), посвященным умершим (Окшув, зап. автора).
С духом предка связан домовой дух, называемый у болгар таласъм, который иногда появляется в облике волка. В черниговском Полесье при встрече с волком к нему обращаются: „Дамавой хазяин, старани дарогу“ (Репкинский р-н, Старые Яриловичи, зап. автора). Так же, как умерших или домового, белорусы и поляки приглашают волка к рождественскому ужину» [Гура 1997. С. 124‒125].
По данным этнографии, в славянских верованиях душа умершего (в том числе предка) могла принимать форму различных животных [Соболев 1913. С. 53‒57; 71‒74]. Так, например, в причитаниях по умершему «четко прослеживается мысль о возрождении человека в разных жизненных формах» [Еремина 1991. С. 20]. Однако, в отличие от известных представлений восточной философии, в русском фольклоре «представление о кругообороте жизненных форм не получило конкретного формульного выражения» [Еремина 1991. С. 20].
Тем не менее, согласно славянским верованиям, именно предки могли защитить человека от встретившегося ему волка: «Имена П[редков] в качестве оберега выкрикивали при встрече с волком (полес.)» [Левкиевская 2009. С. 250]. Ср. также: «В Полесье при встрече с волком призывают к себе умерших, называют их по имени (Гомельская обл., Ветковский р-н, Присно, зап. А.Л. Топоркова), гукаюць мёртвага (Гомельская обл., Речицкий р-н, Молодуша), вспоминают его (Киевская обл., Чернобыльский р-н, Копачи, зап. О.Б. Шаталовой), зовут знакомого умершего охотника (Гомельская обл., Ветковский р-н, Большие Немки, зап. Э.А. Акулина), называют имена троих покойных предков — „сваих радителяў мяртвы́х тры чалавеки“ (Чнрниговская обл., Городнянский р-н, Хоробичи, зап. автора). Время разгула волков у поляков Хелмского воев. связано с днем Всех святых (1.XI), посвященным умершим (Окшув, зап. автора).
С духом предка связан домовой дух, называемый у болгар таласъм, который иногда появляется в облике волка. В черниговском Полесье при встрече с волком к нему обращаются: „Дамавой хазяин, старани дарогу“ (Репкинский р-н, Старые Яриловичи, зап. автора). Так же, как умерших или домового, белорусы и поляки приглашают волка к рождественскому ужину» [Гура 1997. С. 124‒125].
По данным этнографии, в славянских верованиях душа умершего (в том числе предка) могла принимать форму различных животных [Соболев 1913. С. 53‒57; 71‒74]. Так, например, в причитаниях по умершему «четко прослеживается мысль о возрождении человека в разных жизненных формах» [Еремина 1991. С. 20]. Однако, в отличие от известных представлений восточной философии, в русском фольклоре «представление о кругообороте жизненных форм не получило конкретного формульного выражения» [Еремина 1991. С. 20].
По всей видимости, две змеи «жоўтая Шаўра, шкурапея Хаўра» из белорусского заговора «ад змей» [Замовы 1992. С. 115‒116 (№ 313)] имеют непосредственное отношение к Ставрам и Гаврам. В самом деле, если собаки в индоевропейской традиции часто выступают проводниками в загробный мир [см., напр.: Ибн Фадлан 1939. С. 81: во время похорон знатного руса «принесли собаку, и разрезали ее на две части, и бросили в корабле» и т.д.], то змеи в балто-славянской традиции устойчиво связываются с культом предков [см., напр.: Теобальд 1890].
Хотя культ змей (и особенно ужей) более характерен для балтской традиции, элементы его обнаруживаются и у славян. Выдающийся советский и российский археолог-славист В.В. Седов писал: «У всех балтских племен вплоть до XVI столетия было распространено культовое почитание змей. Следы этого культа в отдельных местах Литвы дожили до XX в. В XVI в. Стрыйковский видел сам, что в Литве народ боготворил черных ужей. Уж считался покровителем дома, хозяин кормил его, обижать ужа было опасно. Культ змеи у балтов своими корнями уходит в глубокую древность. Нарбут [имеется в виду историк и исследователь литовской мифологии Теодор Нарбут (1784—1864), — прим. В.] приводит свидетельство Иеронима Пражского [чешского реформатора-гусита, сожжённого на костре в 1416 г., — прим. В.] о широкой распространенности этого культа в языческой Литве. В углу каждой хаты древние литовцы-язычники держали ужа, которого почитали хозяином дома, кормили его и приносили жертвы. Средневековые историки приводят известия о распространенности поклонения змеям и среди прусских племен. Бесспорно, с этим культом связаны и различные украшения со стилизованными головами, столь распространенные в древних могильниках балтских племен. Культовое почитание змей у балтов, таким образом, было весьма древним ритуалом, безусловно связанным с их языческим мировоззрением.
<...> в среде славянского населения Белоруссии и Верхнего Поднепровья в прошлом столетии [т.е. в XIX в., — прим. В.] были зафиксированы случаи поклонения ужам и бесспорные отголоски змеиного культа. Так, во многих местностях в народных обычаях белорусов сохранялось почитание домашних ужей, тождественное тому, что описано у литовцев. Е.Н. Клетнова собрала сведения о следах змеиного культа на территории Смоленщины [Клетнова 1924]. Отголоски древнего языческого поклонения змеям зафиксированы под Смоленском и Вязьмой, в окрестностях Рославля и Белого. Распространение змеиного культа среди славянского населения Верхнего Поднепровья и Подвинья нельзя связать с влиянием соседей литовцев» [Седов 1970. С. 177].
По замечанию профессионального фольклориста, автора фундаментального исследования «Восточнославянские мифологические рассказы о змеях. Семантика. Исследование. Тексты» Н.К. Козловой: «славянская (в том числе и восточнославянская) традиционная культура <...> сохранила рудименты древнейших мифологических воззрений на змей» [Козлова 2006. С. 4].
А вот в полесском обережном заговоре скота от волков, записанном в 1982 г. в с. Картушино Стародубского р-на Брянской области от Хмелевской М.И., 1903 г.р., некие Хавр (=Гавр?) и Хаврунья представлены как волк и волчица: «Юрий-Ягóрий, / Дай мне ключик и замóк / Замкнýть Хаврýнью и Хаврá (Эта воўк и ваўчи́ца). / Замкнýть зýбы и гýбы...» [ПЗ 2003. С. 530 (№ 906)].
По всей видимости, две змеи «жоўтая Шаўра, шкурапея Хаўра» из белорусского заговора «ад змей» [Замовы 1992. С. 115‒116 (№ 313)] имеют непосредственное отношение к Ставрам и Гаврам. В самом деле, если собаки в индоевропейской традиции часто выступают проводниками в загробный мир [см., напр.: Ибн Фадлан 1939. С. 81: во время похорон знатного руса «принесли собаку, и разрезали ее на две части, и бросили в корабле» и т.д.], то змеи в балто-славянской традиции устойчиво связываются с культом предков [см., напр.: Теобальд 1890].
Хотя культ змей (и особенно ужей) более характерен для балтской традиции, элементы его обнаруживаются и у славян. Выдающийся советский и российский археолог-славист В.В. Седов писал: «У всех балтских племен вплоть до XVI столетия было распространено культовое почитание змей. Следы этого культа в отдельных местах Литвы дожили до XX в. В XVI в. Стрыйковский видел сам, что в Литве народ боготворил черных ужей. Уж считался покровителем дома, хозяин кормил его, обижать ужа было опасно. Культ змеи у балтов своими корнями уходит в глубокую древность. Нарбут [имеется в виду историк и исследователь литовской мифологии Теодор Нарбут (1784—1864), — прим. В.] приводит свидетельство Иеронима Пражского [чешского реформатора-гусита, сожжённого на костре в 1416 г., — прим. В.] о широкой распространенности этого культа в языческой Литве. В углу каждой хаты древние литовцы-язычники держали ужа, которого почитали хозяином дома, кормили его и приносили жертвы. Средневековые историки приводят известия о распространенности поклонения змеям и среди прусских племен. Бесспорно, с этим культом связаны и различные украшения со стилизованными головами, столь распространенные в древних могильниках балтских племен. Культовое почитание змей у балтов, таким образом, было весьма древним ритуалом, безусловно связанным с их языческим мировоззрением.
<...> в среде славянского населения Белоруссии и Верхнего Поднепровья в прошлом столетии [т.е. в XIX в., — прим. В.] были зафиксированы случаи поклонения ужам и бесспорные отголоски змеиного культа. Так, во многих местностях в народных обычаях белорусов сохранялось почитание домашних ужей, тождественное тому, что описано у литовцев. Е.Н. Клетнова собрала сведения о следах змеиного культа на территории Смоленщины [Клетнова 1924]. Отголоски древнего языческого поклонения змеям зафиксированы под Смоленском и Вязьмой, в окрестностях Рославля и Белого. Распространение змеиного культа среди славянского населения Верхнего Поднепровья и Подвинья нельзя связать с влиянием соседей литовцев» [Седов 1970. С. 177].
По замечанию профессионального фольклориста, автора фундаментального исследования «Восточнославянские мифологические рассказы о змеях. Семантика. Исследование. Тексты» Н.К. Козловой: «славянская (в том числе и восточнославянская) традиционная культура <...> сохранила рудименты древнейших мифологических воззрений на змей» [Козлова 2006. С. 4].
А вот в полесском обережном заговоре скота от волков, записанном в 1982 г. в с. Картушино Стародубского р-на Брянской области от Хмелевской М.И., 1903 г.р., некие Хавр (=Гавр?) и Хаврунья представлены как волк и волчица: «Юрий-Ягóрий, / Дай мне ключик и замóк / Замкнýть Хаврýнью и Хаврá (Эта воўк и ваўчи́ца). / Замкнýть зýбы и гýбы...» [ПЗ 2003. С. 530 (№ 906)].
„Прильвицкие идолы“ являются неумелой подделкой, а „руны“, на них нанесенные, нигде больше не засвидетельствованы. Второй случай имеет дело с подлинным изображением. В 1825 г. Я. Колларом был описан каменный лев из Бамберга, на котором присутствовали некие знаки, истолкованные как руническая надпись „Чернобог“ или Carni bu(g) [Прейс 1838. С. 230, 232]. Судя по прорисовкам, это не особо большая скульптура (1.80×0.53×0.53 м) выглядела столь непохожей на собственно льва, что А.Н. Афанасьев, наверное, имел право предполагать, „что это волк, мифический представитель ночи, темных туч и зимы“ [Афанасьев I 1865. С. 93 (сноска № 2)]. Не отсюда ли мнение Мармье о „свирепом волке“? Доверие к такому переводу надписи давно прошло, А.А. Котляревский в 1889 году пишет, что „бамбергский мнимый идол Чернобога — простое изображение льва, обыкновенно помещаемого в средние века у церковных дверей“, а сам Коллар указанные знаки („какие-то нарезы, бессвязно и беспорядочно разбросанные по камню то вверху, то внизу, на плечах и хвосте“) позднее читал совершенно иначе, то есть отказался от поиска в них имени Чернобога [Котляревский 1889. С. 283 (сноска № 1)]. Академик И.В. Ягич в 1911 году отзывается о том не менее жестко: „фантастические толкования А. Кухарского и Яна Коллара мнимых славянских надписей рунического письма на Штирийских шлемах и надписи, будто бы найденной на Бамбергском льве“ [Ягич 1911. С. 23]» [Богумил I 2022. С. 53‒56].
Оригинальный текст К. Мармье, где он говорит о том, что Чернобога представляли в виде свирепого, или разъярённого, волка: «Le dieu du mal s՚appelle Zcerncboch (dieu noir); on le représente tantôt sous la forme d՚un loup furieux, tantôt sous celle d՚un homme tenant un tison enflammé à la main. On lui offrait pour prévenir sa colère des sacrifices sanglans» [Marmier 1840. P. 34; ср. также: Marmier 1841. P. 32].
Оригинальный текст К. Мармье, где он говорит о том, что Чернобога представляли в виде свирепого, или разъярённого, волка: «Le dieu du mal s՚appelle Zcerncboch (dieu noir); on le représente tantôt sous la forme d՚un loup furieux, tantôt sous celle d՚un homme tenant un tison enflammé à la main. On lui offrait pour prévenir sa colère des sacrifices sanglans» [Marmier 1840. P. 34; ср. также: Marmier 1841. P. 32].
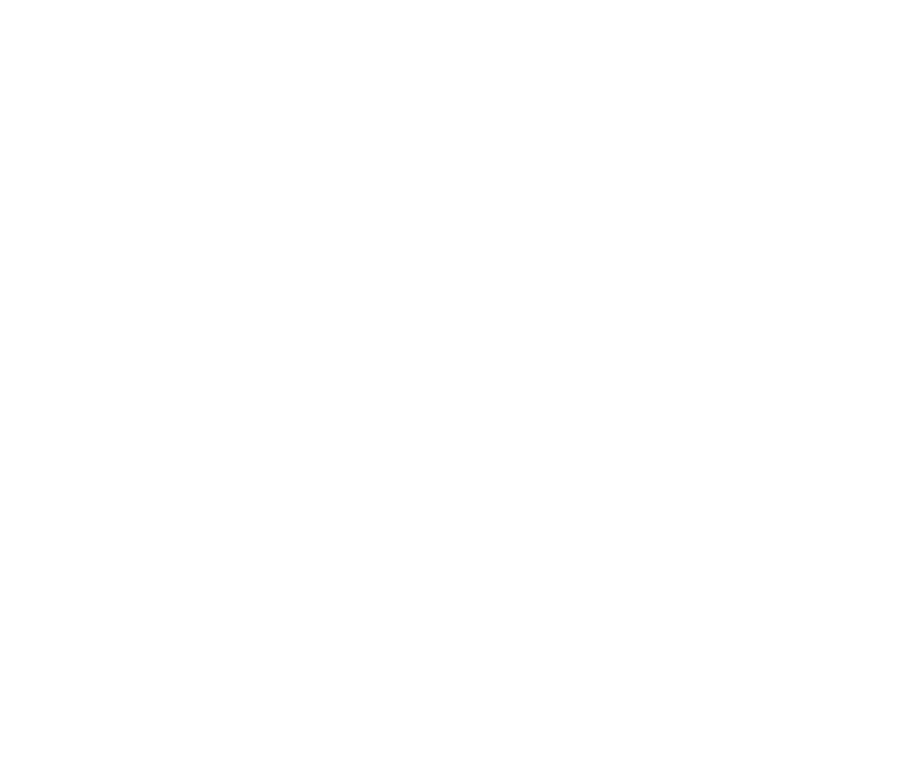
Велес (Weles) в изображении чешского художника М. Алеша (1905). Прототипом этого необычного изображения послужила статуя Германубиса (Ἑρμανοῦβις) — синкретического Божества, сочетающего в себе черты греческого Гермеса и египетского Анубиса, — из Ватиканского музея (справа). Следует отметить, что никаких аутентичных изображений Велеса с головой волка или шакала науке не известно.
Эта неопределённость впоследствии привела к появлению множества различных — зачастую взаимоисключающих — гипотез о природе и функциях этого Божества [Васильев 1999. С. 98‒114], которые мы уже рассматривали в другом месте [Велеслав 2022. С. 802‒813]. В настоящее время нас интересует лишь одна из них, высказанная ещё в XIX в. А.С. Петрушевичем [Петрушевич 1876. С. 18‒19; Петрушевич 1887. С. 65, 90], в XX в. фигурировавшая в исследованиях Н.М. Гальковского [Гальковский I 1916. С. 32‒33] и К.В. Тревер [Тревер 1933], а позднее получившая широкую известность благодаря трудам академика Б.А. Рыбакова [Рыбаков 1967; Рыбаков 1981. С. 435‒437; Рыбаков 1987. С. 714‒741]: «Прилагая выводы К.В. Тревер относительно облика Саэны-Сэнмурва к древнерусскому материалу, Б.А. Рыбаков подверг анализу изображения „крылатых псов“, называемых им „cемарглами“, в искусстве Древней Руси, в первую очередь на браслетах-наручах из княжеско-боярских кладов XII — начала XIII в., использовавшихся во время ритуальных русальных танцев. На них изображения „cемарглов“, по мнению ученого, служили оберегами, а сам крылатый пес мыслился как благое существо — защитник от зла. Б.А. Рыбаков отметил постепенное изменение иконографии собак-птиц на наручах, связав это обстоятельство с исчезновением из древнерусских письменных памятников божества Семаргла и появлением неизвестного в них ранее божества Переплута, что явилось, по его мнению, результатом вытеснения уже плохо понимаемого иранского по происхождению собаковидного Семаргла образом собственно славянского язычества с аналогичными функциями» [Васильев 1999. С. 105].
Однако, вопреки мнению Б.А. Рыбакова, у нас, кажется, нет достаточных оснований считать загадочного Симаргла/Семаргла «крылатым псом» или отождествлять его с ещё более загадочным Переплутом.
Эта неопределённость впоследствии привела к появлению множества различных — зачастую взаимоисключающих — гипотез о природе и функциях этого Божества [Васильев 1999. С. 98‒114], которые мы уже рассматривали в другом месте [Велеслав 2022. С. 802‒813]. В настоящее время нас интересует лишь одна из них, высказанная ещё в XIX в. А.С. Петрушевичем [Петрушевич 1876. С. 18‒19; Петрушевич 1887. С. 65, 90], в XX в. фигурировавшая в исследованиях Н.М. Гальковского [Гальковский I 1916. С. 32‒33] и К.В. Тревер [Тревер 1933], а позднее получившая широкую известность благодаря трудам академика Б.А. Рыбакова [Рыбаков 1967; Рыбаков 1981. С. 435‒437; Рыбаков 1987. С. 714‒741]: «Прилагая выводы К.В. Тревер относительно облика Саэны-Сэнмурва к древнерусскому материалу, Б.А. Рыбаков подверг анализу изображения „крылатых псов“, называемых им „cемарглами“, в искусстве Древней Руси, в первую очередь на браслетах-наручах из княжеско-боярских кладов XII — начала XIII в., использовавшихся во время ритуальных русальных танцев. На них изображения „cемарглов“, по мнению ученого, служили оберегами, а сам крылатый пес мыслился как благое существо — защитник от зла. Б.А. Рыбаков отметил постепенное изменение иконографии собак-птиц на наручах, связав это обстоятельство с исчезновением из древнерусских письменных памятников божества Семаргла и появлением неизвестного в них ранее божества Переплута, что явилось, по его мнению, результатом вытеснения уже плохо понимаемого иранского по происхождению собаковидного Семаргла образом собственно славянского язычества с аналогичными функциями» [Васильев 1999. С. 105].
Однако, вопреки мнению Б.А. Рыбакова, у нас, кажется, нет достаточных оснований считать загадочного Симаргла/Семаргла «крылатым псом» или отождествлять его с ещё более загадочным Переплутом.
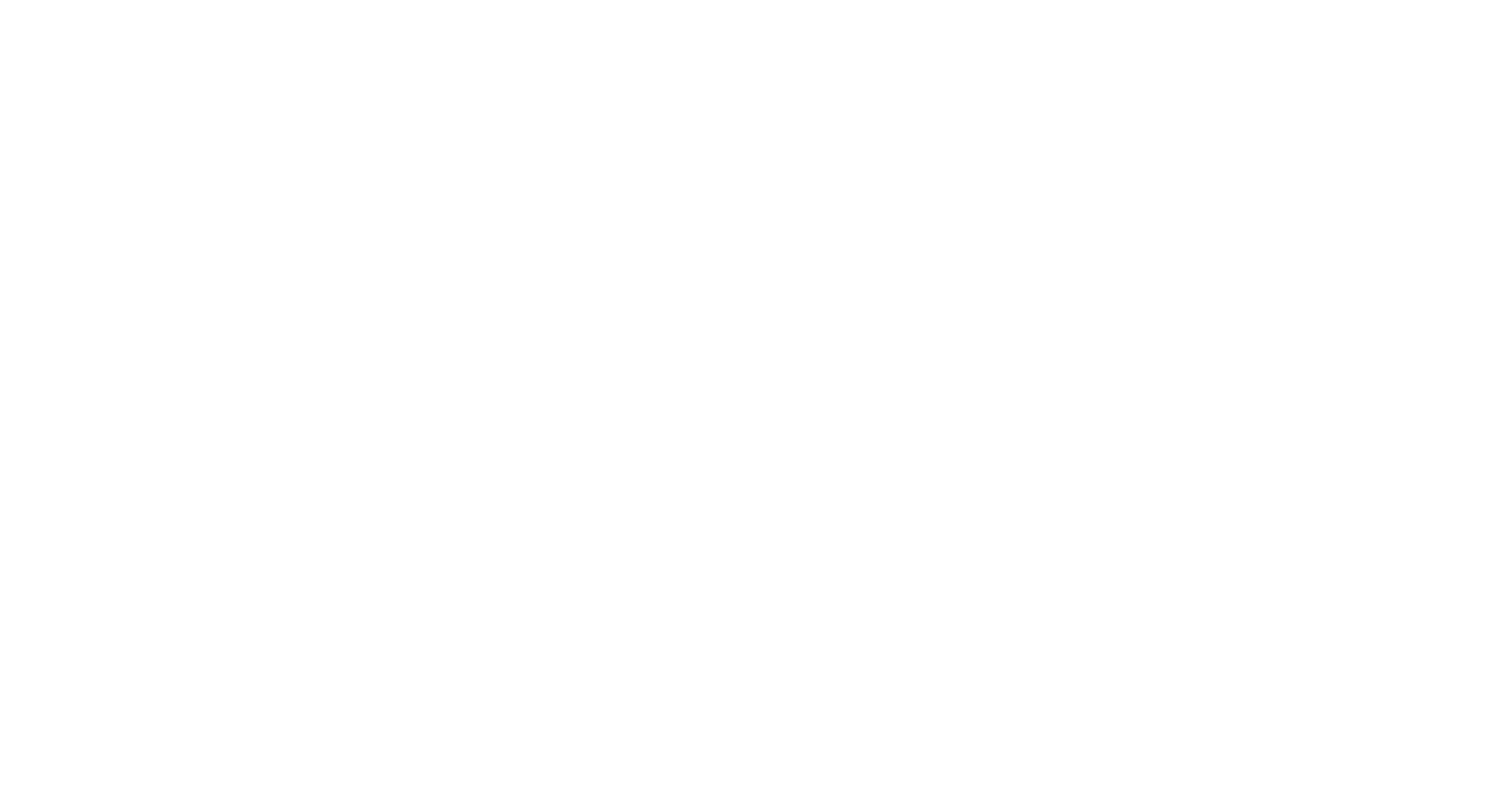
«Сенмурв — крылатый пес, охранитель древа жизни (иранский средневековый кувшин)» Рыбаков 1967. С.
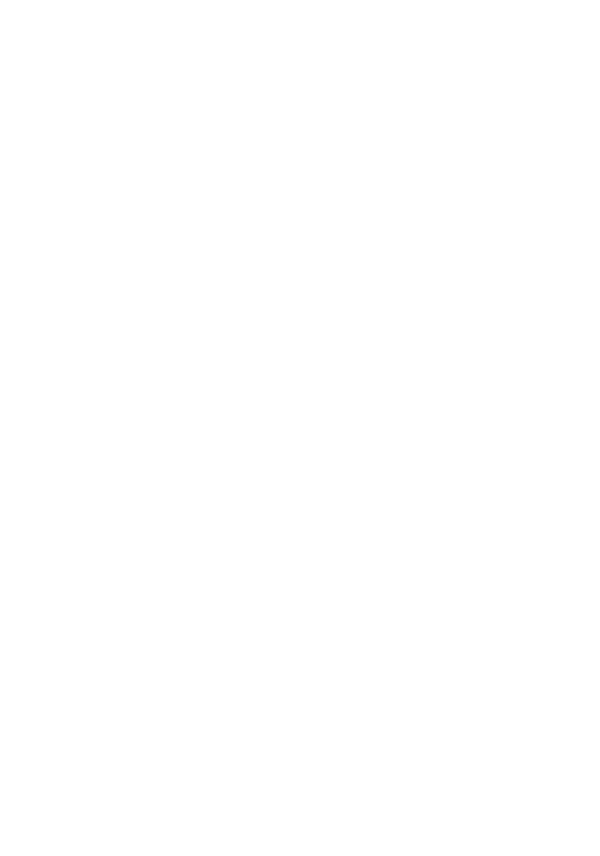
Славянские изображения: «Симарглы и корни с побегами» Рыбаков 1967. С. 114
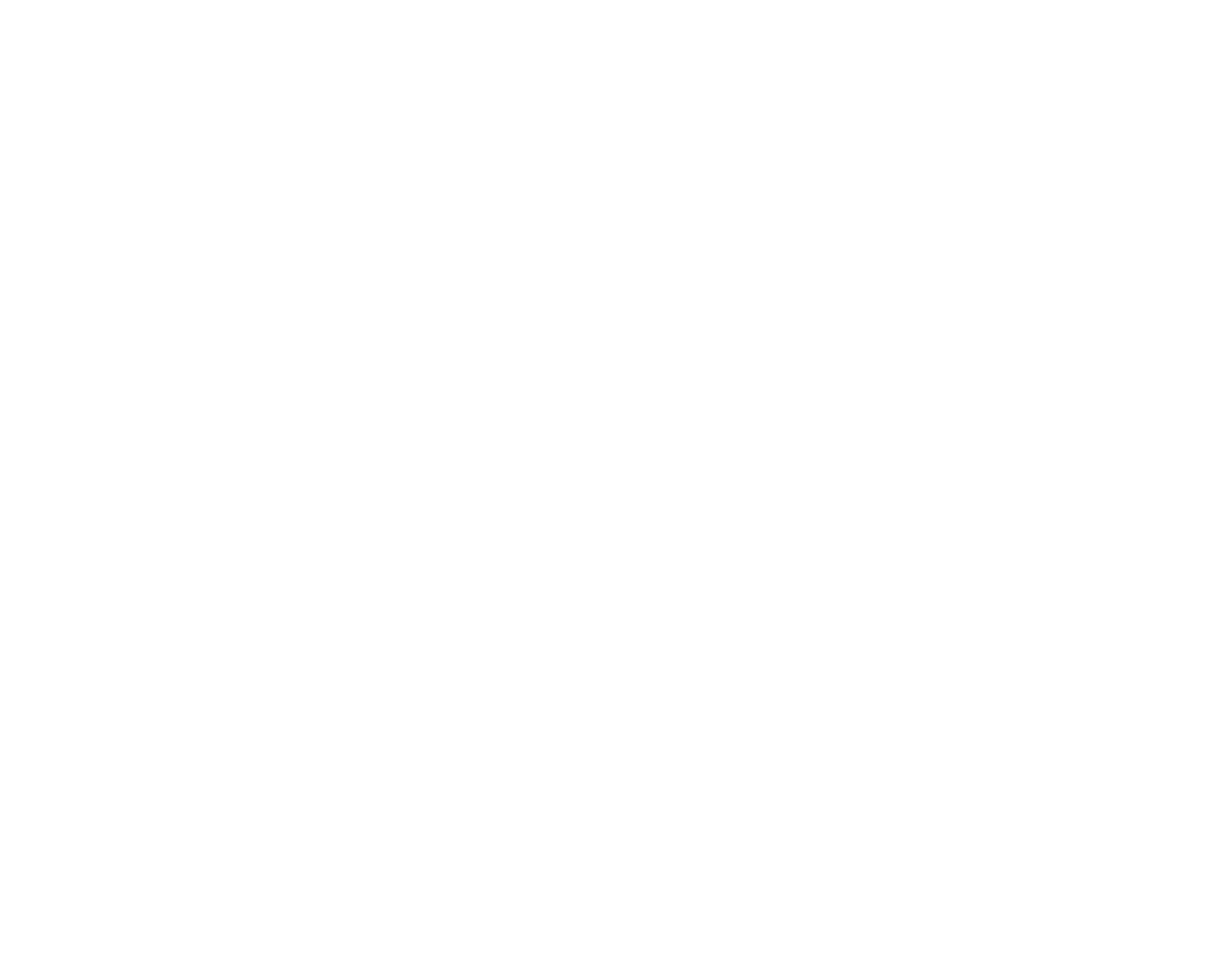
Подпись под рисунком гласит: «Фрагмент керамической тарелки. Гос. Исторический Музей. Москва» [Тревер 1937. С. 60]
Кроме самого имени, о нем неизвестно ничего, но едва ли могут быть какие-либо сомнения в том, что здесь мы имеем передачу имени Симурга [сомнения, и притом большие, как раз имеются, — прим. В.]. „Симург“ так отчетливо звучит в различных формах имени славянского божества, что становится непонятным, почему его не распознал такой выдающийся иранист, как Ф.Е. Корш, писавший: „Чтò касается именъ Симарьглъ и Мокошь, то иноязычное ихъ происхожденiе бросается въ глаза, но каково оно, опредѣлить тѣмъ болѣе трудно, что миѳологическое значенiе этихъ божествъ неизвѣстно“ [уточнено и исправлено по изд.: Корш 1908. С. 3].
Тарелка из Гнездова дает основание (и независимо от имени) говорить о наличии в кругу мифических представлении населения верхнего Приднепровья образа собаки-птицы, также, как в украинских песнях сохранился прообраз Сэнмурва — Saêna mereγô Авесты, сидящий на дереве, растущем на острове среди озера, охраняемый рыбой [Кара] от злой жабы:
[Ой по] над морем [по над] глубоким
[Там] стоэв явiр [тонкий] високий,
Грай, море, радуйся, земле,
Вiк до вiку,
[А] на тiм яворi сиз орел сидить,
Сиз орел сидить, да в воду глядить,
У воду глядить з рыбою говорить...
Исследование вопроса о „Симургле“ летописей должно быть вновь поставлено на очередь, тем более что не только Симургл, но и другие „божества“ славян напрашиваются на сопоставление с образами ирано-кавказского мира» [Тревер 1937. С. 59‒61].
Заметим, что древнейшие летописные источники имени «Семурглъ» не знают. Такая форма имени действительно встречается, но в достаточно позднем памятнике «О идолєх владимировых» (рукопись конца XVII в.): «еще и iныя идолы мнози бяху по iмени, ѹтъляд или осляд. корша или хорсъ, дашуба или дажбъ. стриба или стрибог симаргля или семурглъ. и макош iли мокошъ» [Гальковский II 1913. С. 300]. Ср. вар.: «семаергля или семарглъ» [Гальковский II 1913. С. 301 (сноска № 19)].
Образ орла встречается ещё в Ригведе, однако ни древний ведийский образ, ни «сиз орел» из цитируемой К.В. Тревер украинской песни не несут в себе гибридных черт «собаки-птицы», а получившее широкую известность благодаря трудам Б.А. Рыбакова «распространенное мнение об иранских корнях восточнославянского Семаргла, опирающееся на этимологию данного имени, — это лишь гипотеза» [Васильев 1999. С. 113], требующая, как кажется, более солидных обоснований, нежели имеющиеся в настоящее время у приверженцев «иранской» теории.
Кроме самого имени, о нем неизвестно ничего, но едва ли могут быть какие-либо сомнения в том, что здесь мы имеем передачу имени Симурга [сомнения, и притом большие, как раз имеются, — прим. В.]. „Симург“ так отчетливо звучит в различных формах имени славянского божества, что становится непонятным, почему его не распознал такой выдающийся иранист, как Ф.Е. Корш, писавший: „Чтò касается именъ Симарьглъ и Мокошь, то иноязычное ихъ происхожденiе бросается въ глаза, но каково оно, опредѣлить тѣмъ болѣе трудно, что миѳологическое значенiе этихъ божествъ неизвѣстно“ [уточнено и исправлено по изд.: Корш 1908. С. 3].
Тарелка из Гнездова дает основание (и независимо от имени) говорить о наличии в кругу мифических представлении населения верхнего Приднепровья образа собаки-птицы, также, как в украинских песнях сохранился прообраз Сэнмурва — Saêna mereγô Авесты, сидящий на дереве, растущем на острове среди озера, охраняемый рыбой [Кара] от злой жабы:
[Ой по] над морем [по над] глубоким
[Там] стоэв явiр [тонкий] високий,
Грай, море, радуйся, земле,
Вiк до вiку,
[А] на тiм яворi сиз орел сидить,
Сиз орел сидить, да в воду глядить,
У воду глядить з рыбою говорить...
Исследование вопроса о „Симургле“ летописей должно быть вновь поставлено на очередь, тем более что не только Симургл, но и другие „божества“ славян напрашиваются на сопоставление с образами ирано-кавказского мира» [Тревер 1937. С. 59‒61].
Заметим, что древнейшие летописные источники имени «Семурглъ» не знают. Такая форма имени действительно встречается, но в достаточно позднем памятнике «О идолєх владимировых» (рукопись конца XVII в.): «еще и iныя идолы мнози бяху по iмени, ѹтъляд или осляд. корша или хорсъ, дашуба или дажбъ. стриба или стрибог симаргля или семурглъ. и макош iли мокошъ» [Гальковский II 1913. С. 300]. Ср. вар.: «семаергля или семарглъ» [Гальковский II 1913. С. 301 (сноска № 19)].
Образ орла встречается ещё в Ригведе, однако ни древний ведийский образ, ни «сиз орел» из цитируемой К.В. Тревер украинской песни не несут в себе гибридных черт «собаки-птицы», а получившее широкую известность благодаря трудам Б.А. Рыбакова «распространенное мнение об иранских корнях восточнославянского Семаргла, опирающееся на этимологию данного имени, — это лишь гипотеза» [Васильев 1999. С. 113], требующая, как кажется, более солидных обоснований, нежели имеющиеся в настоящее время у приверженцев «иранской» теории.
К слову, мотив езды на волке является достаточно древним, что подтверждается, в частности, параллелью из скандинавской мифологии: в Младшей Эдде (в «Видении Гюльви») великанша по имени Хюрроккин (Hyrrokkin) ехала «верхом на волке, а поводьями ей служили змеи» [Младшая Эдда I 1970. С. 49; ср. также: Младшая Эдда II 1970. С. 83].
К слову, мотив езды на волке является достаточно древним, что подтверждается, в частности, параллелью из скандинавской мифологии: в Младшей Эдде (в «Видении Гюльви») великанша по имени Хюрроккин (Hyrrokkin) ехала «верхом на волке, а поводьями ей служили змеи» [Младшая Эдда I 1970. С. 49; ср. также: Младшая Эдда II 1970. С. 83].
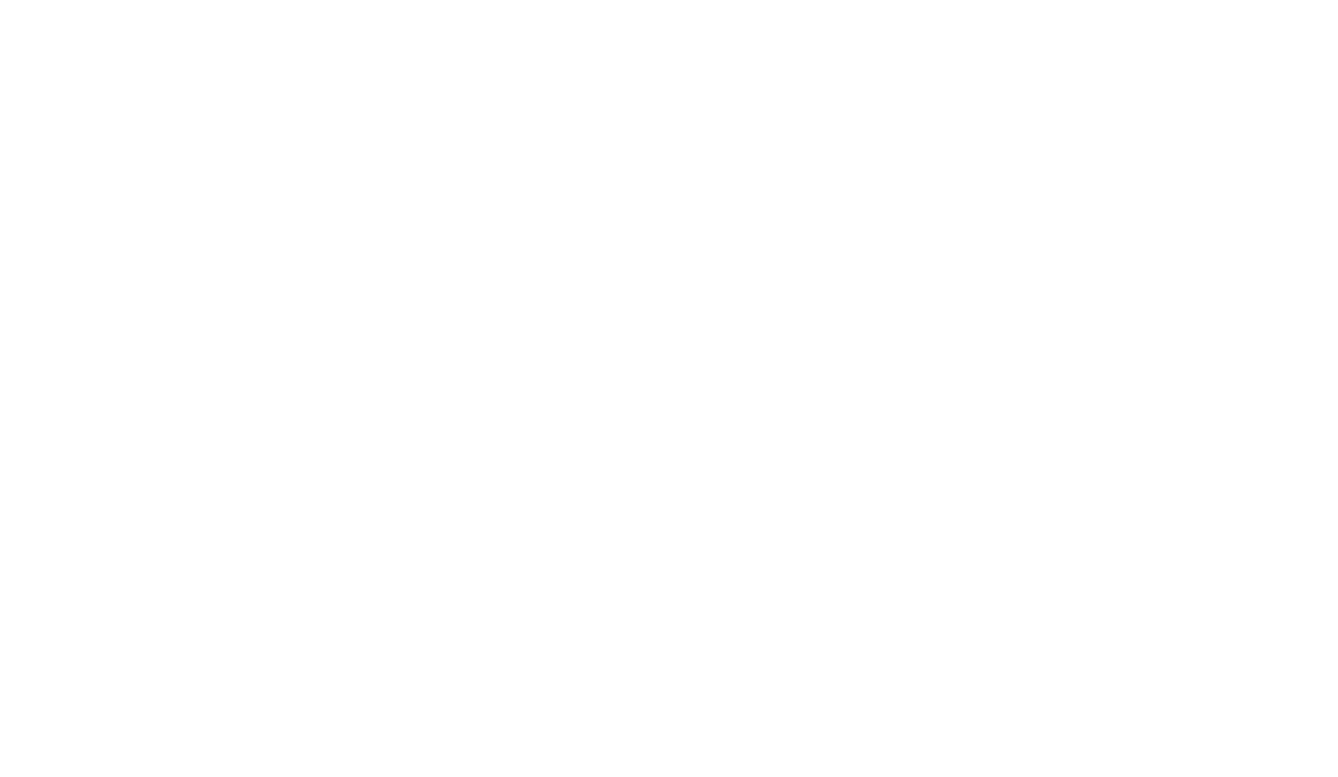
Хюрроккин на руническом камне из Швеции и в изображении немецкого художника Людвига Питча (1865)
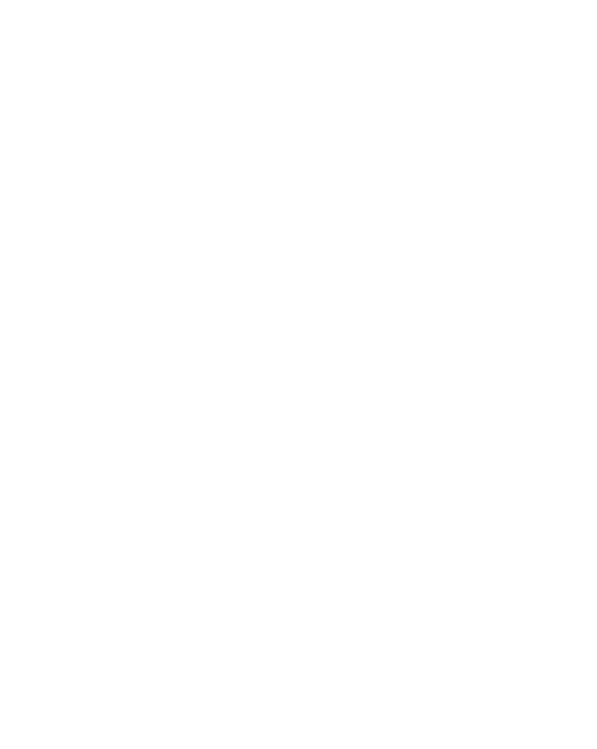
Ср. изображение этого же рунического камня (№ 4) в трактате датского исследователя Оле Ворма [Worm 1643. P. 188]
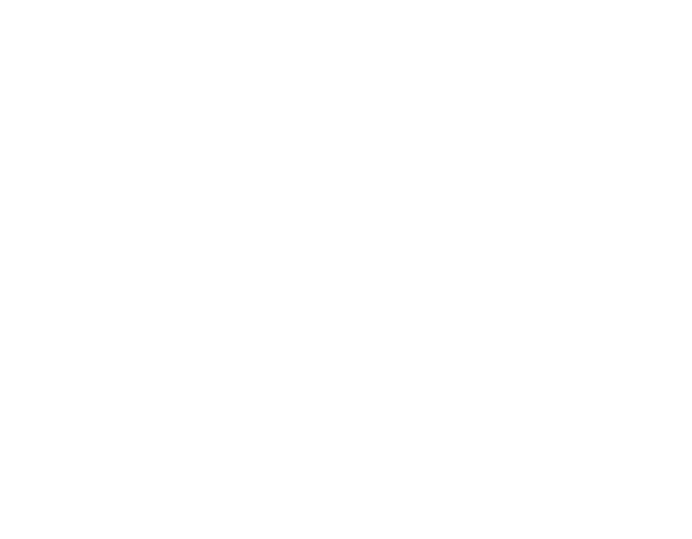
Божество (?) на волке. Бронза. Место находки: окрестности г. Пермь, Гляденовское костище III—V вв. Гляденовская культура Прикамья.
Подробнее о связанных с волками праздниках в традиционном календаре восточных, западных и южных славян — см. далее (в гл. V: «„Волчьи дни“ в славянском календаре»).
Подробнее о связанных с волками праздниках в традиционном календаре восточных, западных и южных славян — см. далее (в гл. V: «„Волчьи дни“ в славянском календаре»).
В жатвенных обрядах в роли духа хлеба выступают как собака, так и волк. В некоторых районах Силезии Пшеничной собакой или Гороховой собачонкой называют лицо, сжавшее или связавшее последний сноп. Но особенно ярко представление о Хлебной собаке проявляется в жатвенных обычаях на северо-востоке Франции. В случае, если кто-нибудь из жнецов, будь то из-за болезни, усталости или лености, не может или не хочет поспевать за ушедшим вперед товарищем, местные крестьяне говорят: „Это рядом с ним пробежала белая собака“, „Он завел белую суку“, „Его укусила белая сука“. В Вогезских горах за Жатвенным маем сохранилось прозвище Жатвенной собаки; о том, кто скашивает остаток сена или пшеницы, тамошние жители говорят, что он „убивает собаку“. В районе города Лон-ле-Сонье, в центре департамента Юра, жители зовут последний сноп Сукой. Когда жители окрестностей Вердена хотят сказать, что уборка урожая приближается к концу, они выражаются так: „Пса скоро убьют“; а в районе города Эпиналя в зависимости от посевной культуры жители говорят в таких случаях: „Мы убьем Пшеничную собаку (Ржаную собаку или Картофельную собаку)“. В Лотарингии о человеке, который жнет последний сноп, говорят: „Он убивает Жатвенную собаку“. В тирольском селении Дукс о человеке, который нанес последний удар цепом на обмолоте, говорят, что он „свалил пса“, а в селении Аненберген (неподалеку от Стада) его в зависимости от разновидности злака зовут то Хлебным, то Ржаным, то Пшеничным щенком.
С самим же волком дела обстоят так. В Силезии о жнецах, которые собираются скосить последний клочок поля, говорят, что они приготовились „схватить волка“. Во многих местах Мекленбургского округа, где вера в Хлебного волка особенно распространена, крестьяне опасаются сжинать остаток хлеба, потому что в нем, но их словам, скрывается волк. Женщины-вязальщицы также испытывают страх перед последним снопом, так как „в нем сидит волк“. Жнецы и вязальщицы состязаются поэтому за то, чтобы не оказаться позади всех. Пословица „В последнем снопе волк сидит“ распространена по всей Германии. В одних местах жнецу кричат: „Эй, берегись волка“, а в других о нем говорят: „Он прогоняет волка из хлеба“. Волком жители Мекленбургского округа называют последнюю несжатую полоску хлеба, а о жнущем ее человеке они говорят, что „он схватил волка“ — Ржаного, Пшеничного или Ячменного в зависимости от убираемой культуры. Волком, а коли речь идет о ржи, то Ржаным волком зовут и самого человека, сжавшего последний сноп. Во многих районах Мекленбургского округа такой человек должен проявлять свою волчью природу: делать вид, что собирается укусить товарищей но жатве, подражать волчьему вою и т.д. Последний сноп в зависимости от посеянного злака также зовут Ржаным волком или Овсяным волком, а о вяжущей его женщине говорят: „Волк кусает ее“, „У нее волк“, „Она должна вытащить волка“ (из хлеба). Кроме того, волчицей зовут саму эту женщину. Это прозвище сохраняется за ней на протяжении целого года. Иногда ее называют более конкретно — Ржаной или Картофельной волчицей.
На острове Рюген женщина, которая вяжет последний сноп, не просто зовется волчицей; войдя в дом, она начинает с того, что кусает хозяйку и служанку, за что получает большой кусок мяса. Тем не менее этой чести всячески избегают. Женщина, связавшая последний сноп ржи, пшеницы или овса, становится соответственно Ржаной, Пшеничной или Овсяной волчицей. В Буире (Кёльнский округ) когда-то существовал обычай придавать последнему снопу форму волка. Этот сноп до окончания обмолота держали в амбаре, после чего приносили к владельцу поля, и тот должен был обрызгать сноп пивом или шнапсом. В Брансгауптене (Мекленбургский округ) молодая женщина, которой выпало вязать последний сноп пшеницы, отделяла от него некоторое количество колосьев и делала из них Пшеничного волка. Получалась фигурка волка приблизительно фута два в длину и полфута в ширину: на ноги зверя шли упругие стебли, а на хвост и загривок — мягкие пшеничные колосья. Во главе целой процессии эта женщина вносила Пшеничного волка в деревню, а затем фигурку эту надолго оставляли на каком-нибудь возвышении в сенях. Жители многих районов придают снопу, прозванному волком, человеческий облик и одевают его. Этот обычай свидетельствует о смешении двух ипостасей духа хлеба — человеческой и животной. Обычно волка привозили в селение на последнем возу под ликующие крики поселян. Поэтому волком зовут также и этот воз. Считалось, далее, что волк, пока его не прогонят из последнего снопа ударами цепа, скрывается на току в грудах скошенного хлеба. Поэтому жители селения Ванцлебен (близ Магдебурга) устраивают шествие, во время которого они ведут на цепи завернутого в солому человека по прозвищу Волк. Он выступает в роли пойманного духа хлеба, пытавшегося спастись бегством из обмолоченного зерна. В Трирском округе бытует поверье, согласно которому участники обмолота убивают Хлебного волка. Тамошние крестьяне молотят последний сноп до тех нор, пока он не превращается в сечку. Это считается самым надежным способом умертвить Хлебного волка, притаившегося в последнем снопе.
Фигурирует Хлебный волк и в жатвенных обычаях французских крестьян. Жнущему последний сноп человеку они кричат: „Ты сцапаешь волка“. Жнецы в районе Шамбери становятся вокруг последнего снопа кольцом и кричат: „Здесь сидит волк“. Когда уборка урожая в департаменте Финистер приближается к концу, жнецы разражаются криками: „Вот он, волк! Сейчас мы поймаем его!“ При этом каждый принимается выкашивать свой ряд, а кончающий первым восклицает: „Я поймал волка!“ Когда в провинции Гюйенн сжаты последние колосья, местные жители водят по всему полю кастрированного барана. Прозвище этого барана — Полевой волк. Рога его украшены венками из цветов и хлебных колосьев, шея и туловище увиты венками и лентами. За ним с пением шествуют участники жатвы. В заключение этого барана закалывают прямо на поле. Жители этой области Франции зовут последний сноп conjoulage, что на местном наречии означает „кастрированный баран“. Все это дает основание полагать, что умерщвление барана является инсценировкой смерти хлебного духа, обитающего якобы в последнем снопе. Но в данном случае слились два представления о духе хлеба — представление о нем как о волке и как о баране.
У некоторых народов бытует поверье, что пойманный волк всю зиму проводит в доме крестьянина, чтобы весной вновь приступить к исполнению своей функции хлебного духа. Поэтому волк еще раз появляется на сцене в середине зимы, когда дни становятся длиннее, и это возвещает приближение весны. В Польше на Рождество повсюду водят человека с наброшенной на голову волчьей шкурой, обносят по всем домам волчье чучело и получают деньги на чай. Имеются данные о существовании старинного обычая водить повсюду одетого листьями человека по кличке Волк и выпрашивать подаяние» [Фрэзер 1983. С. 419‒421].
Ещё ранее о «Хлебном волке» писал видный немецкий этнограф Вильгельм Маннгардт. «В ряде своих работ, начиная с 1865 г. („Ржаной волк и ржаная собака“, „Хлебные демоны“, „Лесные и полевые культы“ и др.), Маннгардт раскрыл множество поразительно живучих в народе поверий и обычаев, связанных с земледельческим хозяйством, — то, что потом получило общее название „аграрных культов“.
Народные верования, относящиеся к сельскому хозяйству, переполнены олицетворенными образами, зооморфными и антропоморфными: это „ржаная собака“, „ржаной заяц“, „ржаной волк“, „ржаная свинья“, „кабан“, „дикая свинья“, разные демоны в виде козла, оленя, коровы, медведя, гуся, мыши, лебедя, жабы и пр.; а также „хлебная матушка“, „хлебная девушка“, „пшеничный человек“, „старик“, „хлебный ребенок“ и пр. Маннгардт решительно отказывался видеть в этих мифологических существах символы или атрибуты великих небесных богов (как это делала мифологическая школа); напротив, он считал, что под ними кроется дух растительности, олицетворение посеянного и вырастающего хлеба. Недаром существует много немецких поговорок: „Волк сидит в хлебах“; „Волк гонит овец через хлеба“ (когда нива колышется от ветра); „Не ходите в хлебное поле, там большая собака“ (так пугают детей).
В работах Маннгардта наметился, таким образом, резкий поворот интереса: от туманных сомнительных образов небесных божеств („высшая мифология“) к живым народным верованиям („низшая мифология“). Эта перемена интереса привела и к обнаружению очень важного факта: в то время как образы древних германских, кельтских, славянских богов давно уже исчезли из памяти народной (об этом позаботилась могущественная христианская церковь), а если и сохранились, то под именами христианских святых, образы низшей мифологии, ближе связанные с хозяйством и со всем бытом народа, сохранились почти целиком, в древнем своем виде, не затронутые церковными примесями: церковь их как бы не заметила» [Гроздова‒Токарев 1977. С. 6‒7].
У восточных славян последняя прядь колосьев на хлебном поле связывалась с Волосом или, в более позднее время, с некоторыми персонажами христианской мифологии: «Когда созрѣетъ хлѣбъ, въ южной Россiи жницы отправляются въ поле съ пѣснями; одна изъ нихъ, захвативъ рукою пучокъ колосьевъ, завиваетъ (закручиваетъ) ихъ на корню и потомъ перегибаетъ или заламываетъ въ какую-нибудь сторону, чтобы всякой могъ видѣть и ни одинъ бы серпъ не коснулся сдѣланнаго „закрута“. Это называется: завивать Волосу бороду или оставлять, дарить ему на бороду кустъ золотистыхъ колосьевъ; въ честь этой „бороды“ поются обрядовыя пѣсни. Думаютъ, что послѣ такого обряда никакой лиходѣй и колдунъ уже не въ силахъ наслать на хлѣбъ порчу. Итакъ, передъ началомъ жатвы первые созрѣвшiе колосья посвящались Волосу, какъ божеству, воспитывающему нивы; къ оставленному для него кусту ржи чувствуется благоговѣйный страхъ: кто дотронется до закрута, того, по народному повѣрью, изогнетъ и скорчитъ — подобно завитымъ колосьямъ. Описанный обрядъ совершается и въ другихъ мѣстностяхъ Россiи: въ архангельской губ., когда уже оканчивается уборка хлѣба, послѣднiе несжатые колосья связываютъ снопомъ на корню, а снопъ этотъ украшаютъ цвѣтами; выраженiе: хлѣбная борода завить употребляется тамъ въ смыслѣ: окончить жатву, убрать зерновой хлѣбъ, а выраженiе: сѣнная борода завить — въ смыслѣ: собрать скошенное сѣно, сметать въ стога. Кустъ несжатаго хлѣба, нарочно-оставляемый въ полѣ, въ костромской губ. называется: волотка на бородку (вóлоть, волóтка — верхняя часть снопа или охапки сѣна). Въ курской и воронежской губ. во время жнитва оставляютъ на корню связанный узломъ пучокъ ржи — въ честь плододавца Ильи-пророка: это называется: завязать Ильѣ бороду; а въ переяславль-залѣсскомъ уѣздѣ оставляютъ на нивѣ нѣсколько колосьевъ кудряваго овса на бородку св. Николѣ или самому Христу» [Афанасьев I 1865. С. 697‒698; ср. также: Иванов‒Топоров 1974. С. 62‒63].
В жатвенных обрядах в роли духа хлеба выступают как собака, так и волк. В некоторых районах Силезии Пшеничной собакой или Гороховой собачонкой называют лицо, сжавшее или связавшее последний сноп. Но особенно ярко представление о Хлебной собаке проявляется в жатвенных обычаях на северо-востоке Франции. В случае, если кто-нибудь из жнецов, будь то из-за болезни, усталости или лености, не может или не хочет поспевать за ушедшим вперед товарищем, местные крестьяне говорят: „Это рядом с ним пробежала белая собака“, „Он завел белую суку“, „Его укусила белая сука“. В Вогезских горах за Жатвенным маем сохранилось прозвище Жатвенной собаки; о том, кто скашивает остаток сена или пшеницы, тамошние жители говорят, что он „убивает собаку“. В районе города Лон-ле-Сонье, в центре департамента Юра, жители зовут последний сноп Сукой. Когда жители окрестностей Вердена хотят сказать, что уборка урожая приближается к концу, они выражаются так: „Пса скоро убьют“; а в районе города Эпиналя в зависимости от посевной культуры жители говорят в таких случаях: „Мы убьем Пшеничную собаку (Ржаную собаку или Картофельную собаку)“. В Лотарингии о человеке, который жнет последний сноп, говорят: „Он убивает Жатвенную собаку“. В тирольском селении Дукс о человеке, который нанес последний удар цепом на обмолоте, говорят, что он „свалил пса“, а в селении Аненберген (неподалеку от Стада) его в зависимости от разновидности злака зовут то Хлебным, то Ржаным, то Пшеничным щенком.
С самим же волком дела обстоят так. В Силезии о жнецах, которые собираются скосить последний клочок поля, говорят, что они приготовились „схватить волка“. Во многих местах Мекленбургского округа, где вера в Хлебного волка особенно распространена, крестьяне опасаются сжинать остаток хлеба, потому что в нем, но их словам, скрывается волк. Женщины-вязальщицы также испытывают страх перед последним снопом, так как „в нем сидит волк“. Жнецы и вязальщицы состязаются поэтому за то, чтобы не оказаться позади всех. Пословица „В последнем снопе волк сидит“ распространена по всей Германии. В одних местах жнецу кричат: „Эй, берегись волка“, а в других о нем говорят: „Он прогоняет волка из хлеба“. Волком жители Мекленбургского округа называют последнюю несжатую полоску хлеба, а о жнущем ее человеке они говорят, что „он схватил волка“ — Ржаного, Пшеничного или Ячменного в зависимости от убираемой культуры. Волком, а коли речь идет о ржи, то Ржаным волком зовут и самого человека, сжавшего последний сноп. Во многих районах Мекленбургского округа такой человек должен проявлять свою волчью природу: делать вид, что собирается укусить товарищей но жатве, подражать волчьему вою и т.д. Последний сноп в зависимости от посеянного злака также зовут Ржаным волком или Овсяным волком, а о вяжущей его женщине говорят: „Волк кусает ее“, „У нее волк“, „Она должна вытащить волка“ (из хлеба). Кроме того, волчицей зовут саму эту женщину. Это прозвище сохраняется за ней на протяжении целого года. Иногда ее называют более конкретно — Ржаной или Картофельной волчицей.
На острове Рюген женщина, которая вяжет последний сноп, не просто зовется волчицей; войдя в дом, она начинает с того, что кусает хозяйку и служанку, за что получает большой кусок мяса. Тем не менее этой чести всячески избегают. Женщина, связавшая последний сноп ржи, пшеницы или овса, становится соответственно Ржаной, Пшеничной или Овсяной волчицей. В Буире (Кёльнский округ) когда-то существовал обычай придавать последнему снопу форму волка. Этот сноп до окончания обмолота держали в амбаре, после чего приносили к владельцу поля, и тот должен был обрызгать сноп пивом или шнапсом. В Брансгауптене (Мекленбургский округ) молодая женщина, которой выпало вязать последний сноп пшеницы, отделяла от него некоторое количество колосьев и делала из них Пшеничного волка. Получалась фигурка волка приблизительно фута два в длину и полфута в ширину: на ноги зверя шли упругие стебли, а на хвост и загривок — мягкие пшеничные колосья. Во главе целой процессии эта женщина вносила Пшеничного волка в деревню, а затем фигурку эту надолго оставляли на каком-нибудь возвышении в сенях. Жители многих районов придают снопу, прозванному волком, человеческий облик и одевают его. Этот обычай свидетельствует о смешении двух ипостасей духа хлеба — человеческой и животной. Обычно волка привозили в селение на последнем возу под ликующие крики поселян. Поэтому волком зовут также и этот воз. Считалось, далее, что волк, пока его не прогонят из последнего снопа ударами цепа, скрывается на току в грудах скошенного хлеба. Поэтому жители селения Ванцлебен (близ Магдебурга) устраивают шествие, во время которого они ведут на цепи завернутого в солому человека по прозвищу Волк. Он выступает в роли пойманного духа хлеба, пытавшегося спастись бегством из обмолоченного зерна. В Трирском округе бытует поверье, согласно которому участники обмолота убивают Хлебного волка. Тамошние крестьяне молотят последний сноп до тех нор, пока он не превращается в сечку. Это считается самым надежным способом умертвить Хлебного волка, притаившегося в последнем снопе.
Фигурирует Хлебный волк и в жатвенных обычаях французских крестьян. Жнущему последний сноп человеку они кричат: „Ты сцапаешь волка“. Жнецы в районе Шамбери становятся вокруг последнего снопа кольцом и кричат: „Здесь сидит волк“. Когда уборка урожая в департаменте Финистер приближается к концу, жнецы разражаются криками: „Вот он, волк! Сейчас мы поймаем его!“ При этом каждый принимается выкашивать свой ряд, а кончающий первым восклицает: „Я поймал волка!“ Когда в провинции Гюйенн сжаты последние колосья, местные жители водят по всему полю кастрированного барана. Прозвище этого барана — Полевой волк. Рога его украшены венками из цветов и хлебных колосьев, шея и туловище увиты венками и лентами. За ним с пением шествуют участники жатвы. В заключение этого барана закалывают прямо на поле. Жители этой области Франции зовут последний сноп conjoulage, что на местном наречии означает „кастрированный баран“. Все это дает основание полагать, что умерщвление барана является инсценировкой смерти хлебного духа, обитающего якобы в последнем снопе. Но в данном случае слились два представления о духе хлеба — представление о нем как о волке и как о баране.
У некоторых народов бытует поверье, что пойманный волк всю зиму проводит в доме крестьянина, чтобы весной вновь приступить к исполнению своей функции хлебного духа. Поэтому волк еще раз появляется на сцене в середине зимы, когда дни становятся длиннее, и это возвещает приближение весны. В Польше на Рождество повсюду водят человека с наброшенной на голову волчьей шкурой, обносят по всем домам волчье чучело и получают деньги на чай. Имеются данные о существовании старинного обычая водить повсюду одетого листьями человека по кличке Волк и выпрашивать подаяние» [Фрэзер 1983. С. 419‒421].
Ещё ранее о «Хлебном волке» писал видный немецкий этнограф Вильгельм Маннгардт. «В ряде своих работ, начиная с 1865 г. („Ржаной волк и ржаная собака“, „Хлебные демоны“, „Лесные и полевые культы“ и др.), Маннгардт раскрыл множество поразительно живучих в народе поверий и обычаев, связанных с земледельческим хозяйством, — то, что потом получило общее название „аграрных культов“.
Народные верования, относящиеся к сельскому хозяйству, переполнены олицетворенными образами, зооморфными и антропоморфными: это „ржаная собака“, „ржаной заяц“, „ржаной волк“, „ржаная свинья“, „кабан“, „дикая свинья“, разные демоны в виде козла, оленя, коровы, медведя, гуся, мыши, лебедя, жабы и пр.; а также „хлебная матушка“, „хлебная девушка“, „пшеничный человек“, „старик“, „хлебный ребенок“ и пр. Маннгардт решительно отказывался видеть в этих мифологических существах символы или атрибуты великих небесных богов (как это делала мифологическая школа); напротив, он считал, что под ними кроется дух растительности, олицетворение посеянного и вырастающего хлеба. Недаром существует много немецких поговорок: „Волк сидит в хлебах“; „Волк гонит овец через хлеба“ (когда нива колышется от ветра); „Не ходите в хлебное поле, там большая собака“ (так пугают детей).
В работах Маннгардта наметился, таким образом, резкий поворот интереса: от туманных сомнительных образов небесных божеств („высшая мифология“) к живым народным верованиям („низшая мифология“). Эта перемена интереса привела и к обнаружению очень важного факта: в то время как образы древних германских, кельтских, славянских богов давно уже исчезли из памяти народной (об этом позаботилась могущественная христианская церковь), а если и сохранились, то под именами христианских святых, образы низшей мифологии, ближе связанные с хозяйством и со всем бытом народа, сохранились почти целиком, в древнем своем виде, не затронутые церковными примесями: церковь их как бы не заметила» [Гроздова‒Токарев 1977. С. 6‒7].
У восточных славян последняя прядь колосьев на хлебном поле связывалась с Волосом или, в более позднее время, с некоторыми персонажами христианской мифологии: «Когда созрѣетъ хлѣбъ, въ южной Россiи жницы отправляются въ поле съ пѣснями; одна изъ нихъ, захвативъ рукою пучокъ колосьевъ, завиваетъ (закручиваетъ) ихъ на корню и потомъ перегибаетъ или заламываетъ въ какую-нибудь сторону, чтобы всякой могъ видѣть и ни одинъ бы серпъ не коснулся сдѣланнаго „закрута“. Это называется: завивать Волосу бороду или оставлять, дарить ему на бороду кустъ золотистыхъ колосьевъ; въ честь этой „бороды“ поются обрядовыя пѣсни. Думаютъ, что послѣ такого обряда никакой лиходѣй и колдунъ уже не въ силахъ наслать на хлѣбъ порчу. Итакъ, передъ началомъ жатвы первые созрѣвшiе колосья посвящались Волосу, какъ божеству, воспитывающему нивы; къ оставленному для него кусту ржи чувствуется благоговѣйный страхъ: кто дотронется до закрута, того, по народному повѣрью, изогнетъ и скорчитъ — подобно завитымъ колосьямъ. Описанный обрядъ совершается и въ другихъ мѣстностяхъ Россiи: въ архангельской губ., когда уже оканчивается уборка хлѣба, послѣднiе несжатые колосья связываютъ снопомъ на корню, а снопъ этотъ украшаютъ цвѣтами; выраженiе: хлѣбная борода завить употребляется тамъ въ смыслѣ: окончить жатву, убрать зерновой хлѣбъ, а выраженiе: сѣнная борода завить — въ смыслѣ: собрать скошенное сѣно, сметать въ стога. Кустъ несжатаго хлѣба, нарочно-оставляемый въ полѣ, въ костромской губ. называется: волотка на бородку (вóлоть, волóтка — верхняя часть снопа или охапки сѣна). Въ курской и воронежской губ. во время жнитва оставляютъ на корню связанный узломъ пучокъ ржи — въ честь плододавца Ильи-пророка: это называется: завязать Ильѣ бороду; а въ переяславль-залѣсскомъ уѣздѣ оставляютъ на нивѣ нѣсколько колосьевъ кудряваго овса на бородку св. Николѣ или самому Христу» [Афанасьев I 1865. С. 697‒698; ср. также: Иванов‒Топоров 1974. С. 62‒63].
• человека, просящего милости у Бога: «Влькь ѥс похватлив звѣрь всье(гда) ѿ жива скота хранитсе и ѥгда неѡбрѣщеть себѣ храноу исхо(дить) на пространо мѣсто и вьзоветь кь бѹ҃ гл҃еть г҃и ти ме ѥси сь(тво)риль. и ти мене нереч ꙗсти тр(аву) ни дрѣвиꙗ гристи. ноу животна. инаалчю г҃и. чюють и дроузи мьнши воуци и ѥдиногл҃но вьпїют. посли нам г҃и посли нам. и видить бь҃ молбоу и не прѣчюѥть их. ноу вьсегда живоуть. Тако и ти безоумни чл҃вче. послушай глса црк҃внаго. и притѣчи на моли́твоу сьвсемь срдцемь» (рукописный «Физиолог» византийской редакции, втор. пол. XV в.) [Белова 2000. С. 73];
• отказ от соблазнов: «Вьнiегда загладнѣiеть приходить на похыщенїе. дааще ѹсрѣщеть чл҃ка. тогда творить себе хрома не имѣiе на нозѣ никоiего врѣда. ср҃це же его пльно iесть льсти и похыщенїа. И ты чл҃че словесньсыи како вь оунынїи лежиши. не слыша ли г҃а г҃люща. аще о́ко твоiе или рѹка твоꙗ сьблажнiает՜те. ѿсѣци. не ѡ оудесѣх тѣлесных рече. нь ѡ сьрѡдникох и дроуговь и братеи. аще кто ѿ сьродникь или дроугѡвь врѣдить или пакостить ѡ дши. ѿсѣци егѡ ѿ себе. да iегда вь беспечалiи бѹдеть ѹмь твои. тогда дрьзнеши и ѿ ба҃ ѡбрести бл҃гть» (сербский список «Физиолога» перв. четв. XV в.) [Белова 2000. С. 74];
• а также «злых учителей»: «Волкъ убо напраснивъ есть: овцы и человѣки и всякiй скотъ поядаетъ. Сицевый нравъ подобенъ есть ко злымъ учителем, иже поядаютъ души христiянскiя» (толкование основано на Мт. 7:15) [Белова 2000. С. 74].
Именно в последнем значении «волк» фигурирует в Стоглаве — своде постановлений церковного собора 1551 г.: «хр(и)стианскаа вѣра <...> дабы утвержена была и не поколѣбима в роды и роды и на вѣкы, и не врежена от д(у)шегубителных волкъ и от всяких козней вражиих» [Стоглав 2000. С. 244; ср. также: Стоглав 2015. С. 43].
• человека, просящего милости у Бога: «Влькь ѥс похватлив звѣрь всье(гда) ѿ жива скота хранитсе и ѥгда неѡбрѣщеть себѣ храноу исхо(дить) на пространо мѣсто и вьзоветь кь бѹ҃ гл҃еть г҃и ти ме ѥси сь(тво)риль. и ти мене нереч ꙗсти тр(аву) ни дрѣвиꙗ гристи. ноу животна. инаалчю г҃и. чюють и дроузи мьнши воуци и ѥдиногл҃но вьпїют. посли нам г҃и посли нам. и видить бь҃ молбоу и не прѣчюѥть их. ноу вьсегда живоуть. Тако и ти безоумни чл҃вче. послушай глса црк҃внаго. и притѣчи на моли́твоу сьвсемь срдцемь» (рукописный «Физиолог» византийской редакции, втор. пол. XV в.) [Белова 2000. С. 73];
• отказ от соблазнов: «Вьнiегда загладнѣiеть приходить на похыщенїе. дааще ѹсрѣщеть чл҃ка. тогда творить себе хрома не имѣiе на нозѣ никоiего врѣда. ср҃це же его пльно iесть льсти и похыщенїа. И ты чл҃че словесньсыи како вь оунынїи лежиши. не слыша ли г҃а г҃люща. аще о́ко твоiе или рѹка твоꙗ сьблажнiает՜те. ѿсѣци. не ѡ оудесѣх тѣлесных рече. нь ѡ сьрѡдникох и дроуговь и братеи. аще кто ѿ сьродникь или дроугѡвь врѣдить или пакостить ѡ дши. ѿсѣци егѡ ѿ себе. да iегда вь беспечалiи бѹдеть ѹмь твои. тогда дрьзнеши и ѿ ба҃ ѡбрести бл҃гть» (сербский список «Физиолога» перв. четв. XV в.) [Белова 2000. С. 74];
• а также «злых учителей»: «Волкъ убо напраснивъ есть: овцы и человѣки и всякiй скотъ поядаетъ. Сицевый нравъ подобенъ есть ко злымъ учителем, иже поядаютъ души христiянскiя» (толкование основано на Мт. 7:15) [Белова 2000. С. 74].
Именно в последнем значении «волк» фигурирует в Стоглаве — своде постановлений церковного собора 1551 г.: «хр(и)стианскаа вѣра <...> дабы утвержена была и не поколѣбима в роды и роды и на вѣкы, и не врежена от д(у)шегубителных волкъ и от всяких козней вражиих» [Стоглав 2000. С. 244; ср. также: Стоглав 2015. С. 43].
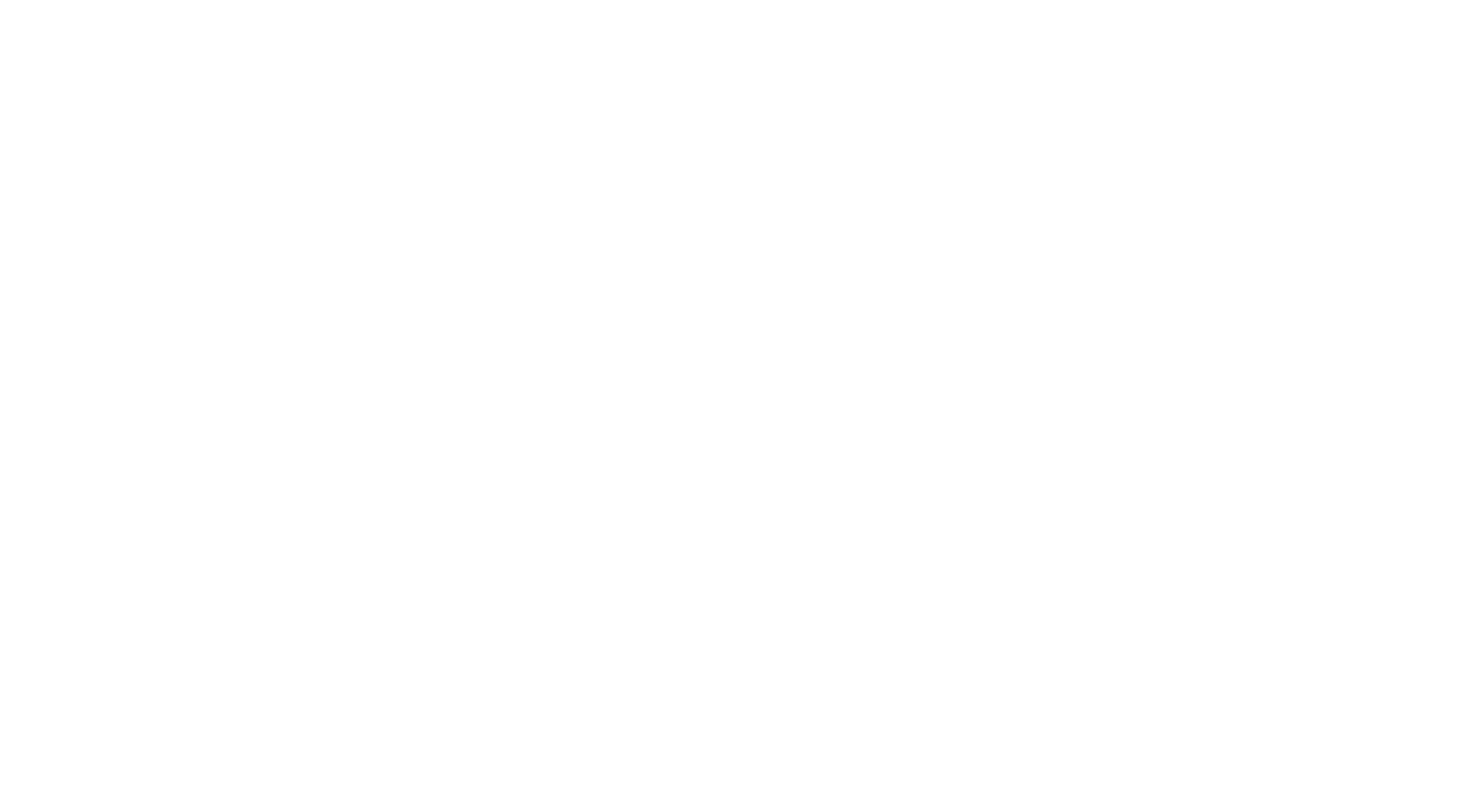
Волк. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 54 об.) [Белова 2000. С. 74]
Встречается в древнерусской литературе и некий «ВОЛКООРЛЬ (вар-ты: влъкоорлъ, волко орлъ) — хищная птица, возм., коршун, Milvus. Волкоόрль сирѣчь: семпъ [ср. пол. sęp]» [Белова 2000. С. 73].
Встречается в древнерусской литературе и некий «ВОЛКООРЛЬ (вар-ты: влъкоорлъ, волко орлъ) — хищная птица, возм., коршун, Milvus. Волкоόрль сирѣчь: семпъ [ср. пол. sęp]» [Белова 2000. С. 73].
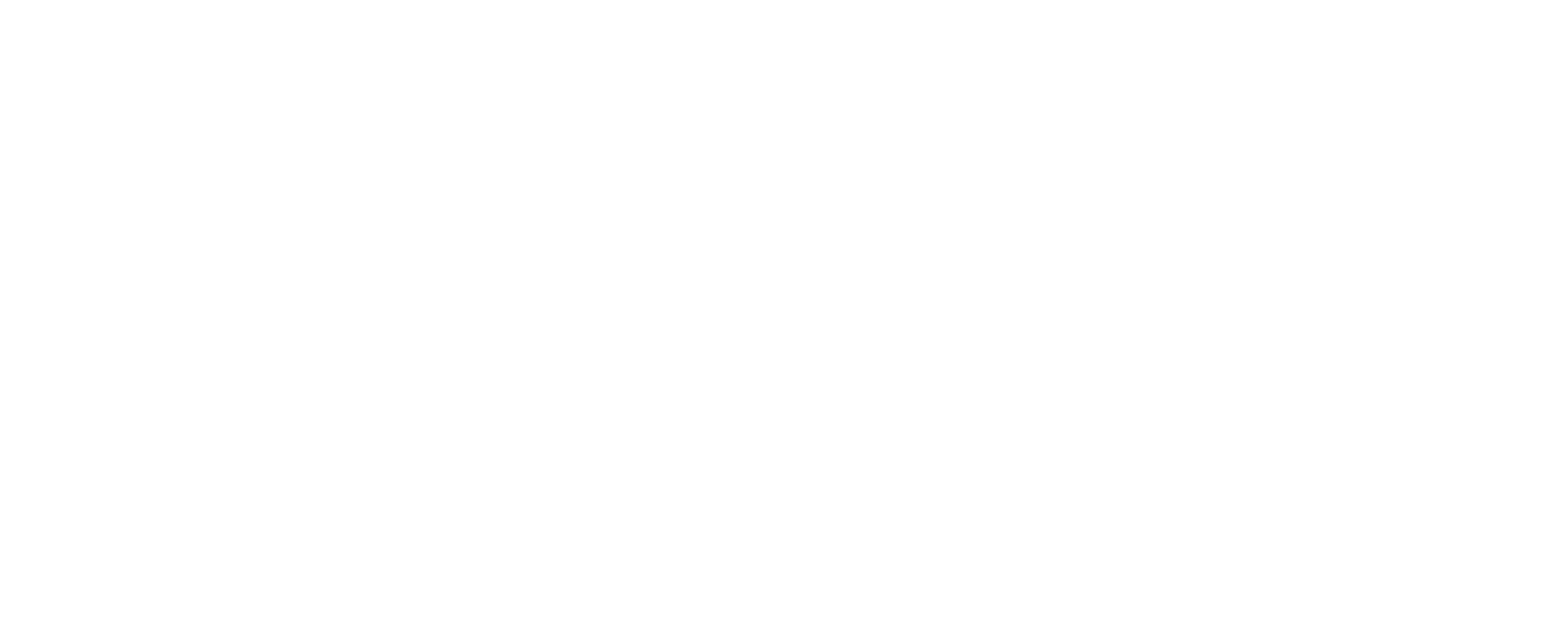
Вообще, специфика изображений в древнерусских рукописных памятниках такова, что без соответствующей подписи порой трудно с уверенностью сказать, кто именно изображён на миниатюре: волк или, например, заяц…
В «босом» же волке многие исследователи видят самого обычного, хорошо известного по русскому фольклору, «серого» волка (от рус. диал. бусый — «серый, пепельный и т.п.»): «Буква -о- в „босымъ“ вместо *бусымъ объясняется так же, как -о- в „по добiю“ вместо *по дубию: пропуском -у- в диграфе „оу“ или выцветанием „рожек“ ука (ꙋ ⇒ о). Ср. еще „Босуви врани“ вместо Бусови.
Северный(?) диалектизм: рус. диал. бýсый ՙсерый, пепельный, дымчатый՚ арханг., волог., вят., урал., сиб., ՙсерый, пепельный, дымчатый (о масти животных)՚ вят., сиб.; ՙсеро-голубой՚ сиб.; ՙседой՚ волог.; ՙбелый в крапинку՚ волог., урал. и т.д., ՙсерый, дымчатый՚ и т.п., однако также южносмол. бýсый ՙдымчатый (о масти кошки)՚; брян. бýсый, бýзый ՙсерый, дымчатый [кот, лошадь]՚ — слово, вероятно, заимствовано из староверческих говоров северного происхождения. Слово неясной этимологии, явно связанное с рус. диал. (сев.) бус ՙизморось; мучная пыль, сахарная пудра՚, буселый ՙзаплесневелый, заросший водорослями (о стоячей воде)՚, бусель ՙплесень, цветение стоячей воды՚, бусеть ՙплесневеть; линять; сереть, синеть՚, бусовой ՙсеро-синеватый՚ и т.п. Вероятно, корень заимствован из тюркских языков — татарск. büz, др.-тюрк., казахск., ногайск. boz, башкирск. buδ и т.д. ՙсерый՚.
Согласно метру, в строке реконструируется ударение б‹ý›сым, что соответствует рус. диал. бýсый. Реконструкция в „Слове“ *бóсым (формы от *бóсыи а. т. b) маловероятна, поскольку прилагательное *bȏsъ ՙбосой՚ имеет праславянскую а. п. c, этот же акцентный тип имеют ст.-в.-рус. босы́и (включая памятники западной локализации), рус. босóй. Акцентуация рус. диал. бóсый, укр. бóсий, белор. бóсы — поздняя, она заимствована из гóлый (ст.-в.-рус. гóлыи а. п. b). Поэтому форму из „Слова“ вряд ли стоит прямо связывать с брян. бóсый волк ՙсветлой масти волк, сменивший окраску шерсти в результате весенней линьки՚. В этой форме бóсый имеет то же значение, что брян. бýсый/бýзый, а огласовка заимствована из босый/босой ՙбосой; со светлыми (лишенными шерсти) лапами՚: укр. бóсий
ՙ(о собаке) темной шерсти с белыми лапами; (о быке) с белыми копытами՚; псков. Бóсый ՙкличка кота с белыми лапками՚» [Николаев 2020. С. 598‒599].
О «настоящем» оборотне — князе Всеславе Полоцком, также упоминаемом в «Слове...», — см. далее (в гл. III: «Волки-оборотни у славян и других народов»).
В «босом» же волке многие исследователи видят самого обычного, хорошо известного по русскому фольклору, «серого» волка (от рус. диал. бусый — «серый, пепельный и т.п.»): «Буква -о- в „босымъ“ вместо *бусымъ объясняется так же, как -о- в „по добiю“ вместо *по дубию: пропуском -у- в диграфе „оу“ или выцветанием „рожек“ ука (ꙋ ⇒ о). Ср. еще „Босуви врани“ вместо Бусови.
Северный(?) диалектизм: рус. диал. бýсый ՙсерый, пепельный, дымчатый՚ арханг., волог., вят., урал., сиб., ՙсерый, пепельный, дымчатый (о масти животных)՚ вят., сиб.; ՙсеро-голубой՚ сиб.; ՙседой՚ волог.; ՙбелый в крапинку՚ волог., урал. и т.д., ՙсерый, дымчатый՚ и т.п., однако также южносмол. бýсый ՙдымчатый (о масти кошки)՚; брян. бýсый, бýзый ՙсерый, дымчатый [кот, лошадь]՚ — слово, вероятно, заимствовано из староверческих говоров северного происхождения. Слово неясной этимологии, явно связанное с рус. диал. (сев.) бус ՙизморось; мучная пыль, сахарная пудра՚, буселый ՙзаплесневелый, заросший водорослями (о стоячей воде)՚, бусель ՙплесень, цветение стоячей воды՚, бусеть ՙплесневеть; линять; сереть, синеть՚, бусовой ՙсеро-синеватый՚ и т.п. Вероятно, корень заимствован из тюркских языков — татарск. büz, др.-тюрк., казахск., ногайск. boz, башкирск. buδ и т.д. ՙсерый՚.
Согласно метру, в строке реконструируется ударение б‹ý›сым, что соответствует рус. диал. бýсый. Реконструкция в „Слове“ *бóсым (формы от *бóсыи а. т. b) маловероятна, поскольку прилагательное *bȏsъ ՙбосой՚ имеет праславянскую а. п. c, этот же акцентный тип имеют ст.-в.-рус. босы́и (включая памятники западной локализации), рус. босóй. Акцентуация рус. диал. бóсый, укр. бóсий, белор. бóсы — поздняя, она заимствована из гóлый (ст.-в.-рус. гóлыи а. п. b). Поэтому форму из „Слова“ вряд ли стоит прямо связывать с брян. бóсый волк ՙсветлой масти волк, сменивший окраску шерсти в результате весенней линьки՚. В этой форме бóсый имеет то же значение, что брян. бýсый/бýзый, а огласовка заимствована из босый/босой ՙбосой; со светлыми (лишенными шерсти) лапами՚: укр. бóсий
ՙ(о собаке) темной шерсти с белыми лапами; (о быке) с белыми копытами՚; псков. Бóсый ՙкличка кота с белыми лапками՚» [Николаев 2020. С. 598‒599].
О «настоящем» оборотне — князе Всеславе Полоцком, также упоминаемом в «Слове...», — см. далее (в гл. III: «Волки-оборотни у славян и других народов»).
«140. О агньце и волке. Агнец на высоком месте стоя и смотряше низу на волка, и зверем худым нарицаше и сыроядным. Волк же обращся, рече к нему: „Не ты мене безчестеши, но столп, на нем же стоиши“.
Толк. Притча являет, ко претерпевающим лаяния от недостойных человек, ради страха высочайших» [ДП 1991. С. 204].
В другом древнерусском сборнике притч под названием «Притчи из Жития Езопа-баснослова» (по рукоп. XVII в.), читаем: «О волках и овцах. Некоторого времени зверие между собою глаголаху. Волки злобу овцам нанесоша. Купно убо со овцами пси волков ратующе и волков отгоняюще. Волки послаше послы, глаголаху овцам: „Аще хощете жити в смирении, какове и надеетеся быти, да псов им выдадут“. Овцы убо некогда ради безумия увещании бяху и псов выдаша. Волки псов погубиша и овцы ни единым упражнением потребиша» [ДП 1991. С. 205].
«140. О агньце и волке. Агнец на высоком месте стоя и смотряше низу на волка, и зверем худым нарицаше и сыроядным. Волк же обращся, рече к нему: „Не ты мене безчестеши, но столп, на нем же стоиши“.
Толк. Притча являет, ко претерпевающим лаяния от недостойных человек, ради страха высочайших» [ДП 1991. С. 204].
В другом древнерусском сборнике притч под названием «Притчи из Жития Езопа-баснослова» (по рукоп. XVII в.), читаем: «О волках и овцах. Некоторого времени зверие между собою глаголаху. Волки злобу овцам нанесоша. Купно убо со овцами пси волков ратующе и волков отгоняюще. Волки послаше послы, глаголаху овцам: „Аще хощете жити в смирении, какове и надеетеся быти, да псов им выдадут“. Овцы убо некогда ради безумия увещании бяху и псов выдаша. Волки псов погубиша и овцы ни единым упражнением потребиша» [ДП 1991. С. 205].
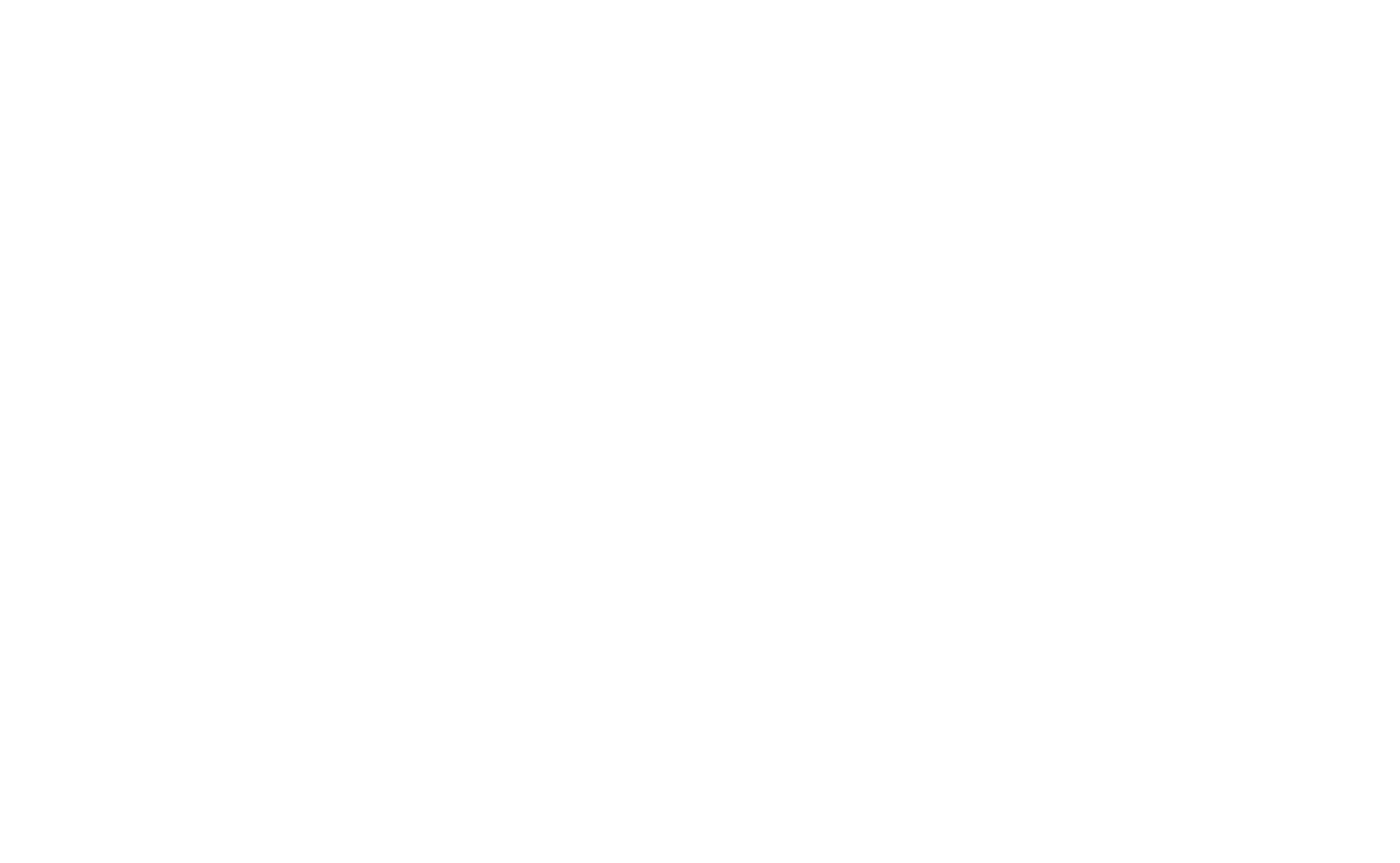
Иллюстрация из литературного сборника XVIII в.
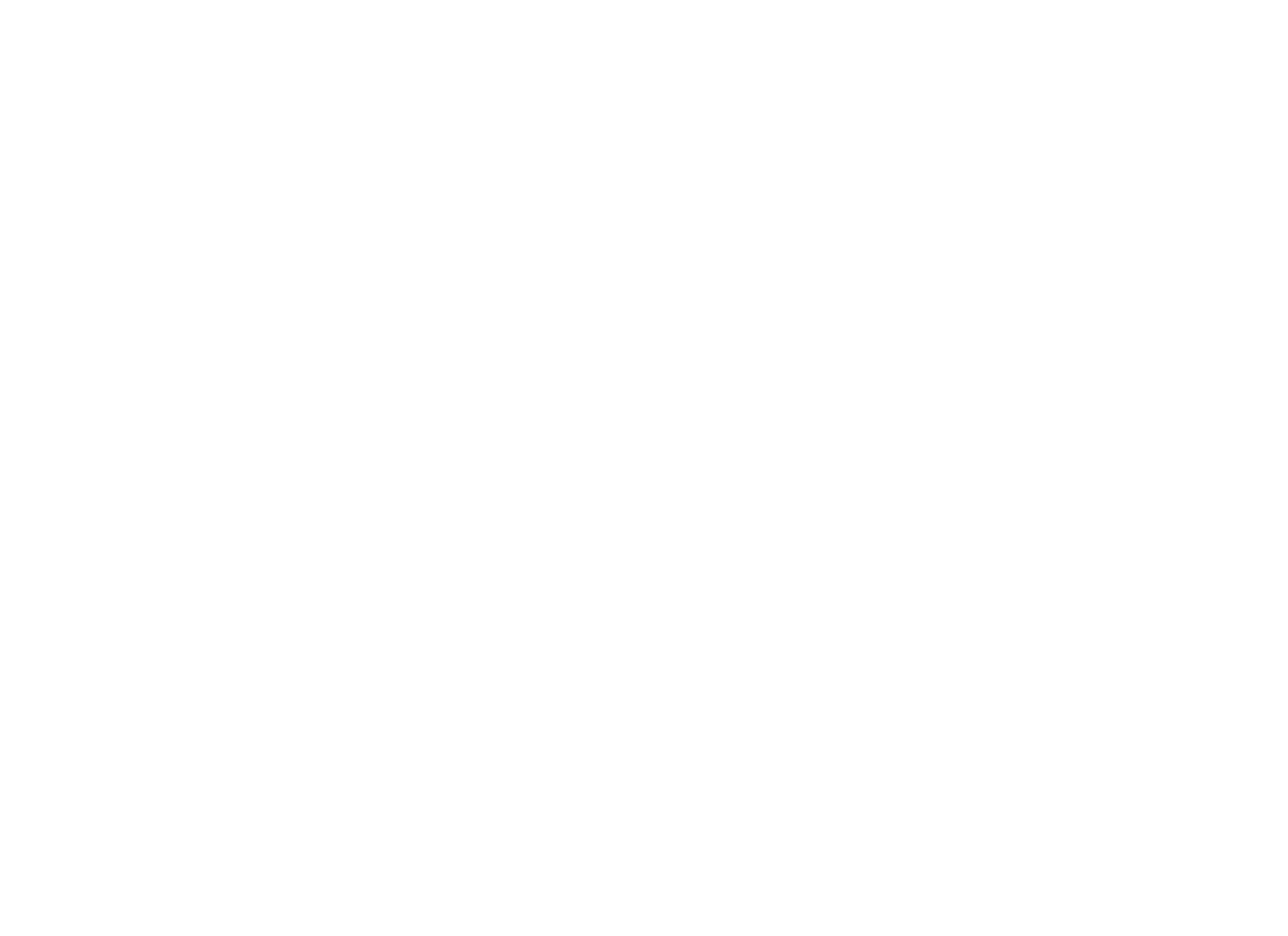
Иллюстрация из литературного сборника XVIII в.
• Из псковских пословиц и поговорок XVII в. в записи Тённи Фенне: «Которой с волком живет, тому с волком воёт» (перевод: «Кто с волком живет, тот по-волчьи воёт» [МСДР 1989. С. 344, 349].
• «Повести или пословицы всенароднейшыя по алфавиту» (сборник XVII в.): «Бояться волков — быть без грибков» [МСДР 1989. С. 356; ср. также: Снегирев 1848. С. 21].
• Там же: «Бежит волчок на супрятку» [МСДР 1989. С. 356].
• Там же: «Волка ловят не голкою [но] уловкою» [МСДР 1989. С. 359; ср. также: Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волки бы сыти, а овцы бы целы» [МСДР 1989. С. 359].
• Там же: «Видя волк козу, забывает грозу» [МСДР 1989. С. 359].
• Там же: «Добр волк до овец, да пасти ему не дадут» [МСДР 1989. С. 365].
• Там же: «Дай бог нашему теляти волка поймати» [МСДР 1989. С. 366].
• Там же: «Зевает волк не етчи, ожидает он овечки» [МСДР 1989. С. 372].
• Там же: «Как волк носил — нихто не видал, а как волка понесли — всяк видит» [МСДР 1989. С. 375].
• Там же: «Куды волк глядит, туды он и бежит» [МСДР 1989. С. 375].
• Там же: «Ленивому медведь в поле, а волк за вороты» [МСДР 1989. С. 377].
• Там же: «Ловит волчок роковую овечку» [МСДР 1989. С. 377].
• Там же: «Не за то волка бьют, что он сер, за то, что съел» [МСДР 1989. С. 382].
• Там же: «Огласила волка мирская голка» [МСДР 1989. С. 385].
• Там же: «Плоха волка и телята лижут» [МСДР 1989. С. 385].
• Там же: «Приняв волк козла, употчивал без зла» [МСДР 1989. С. 386].
• Там же: «Сердитая собака волку корысть» [МСДР 1989. С. 390].
• Пословицы и поговорки конца XVII — начала XVIII в. (по рукописному сборнику Петровского времени): «Волков ловят не голкою, но уловкою» [МСДР 1989. С. 404].
• Там же: «Толко бы на волка не собака, а на девку не робята: оне бы и в день воровали» [МСДР 1989. С. 406].
• Там же: «Вперед не забегай, чтоб волки не съели» [МСДР 1989. С. 408].
• Пословицы и поговорки в сборниках начала XVIII в.: «Голодной волк и завертки рвет» [МСДР 1989. С. 411; ср. также: Снегирев 1848. С. 72].
• Там же: «Нашему ли теляти волка поимати» [МСДР 1989. С. 413].
• Там же: «Волка на собак в помочь не зови» [МСДР 1989. С. 416; ср. также: Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Захохочешь волком» [МСДР 1989. С. 417].
• Там же: «Волк по волчью и рвет» [МСДР 1989. С. 420].
• Там же: «На волке волча и шерсть» [МСДР 1989. С. 420].
• Из «Русских народных пословиц и притч» И.М. Снегирева (1848): «Аще ся въвадитъ волкъ въ овцѣ, то выноситъ все стадо, аще не убьютъ его» [Снегирев 1848. С. 6].
• Там же: «Баловливая овца волку корысть» [Снегирев 1848. С. 8].
• Там же: «Бѣжалъ отъ волка, а попалъ на медвѣдя» [Снегирев 1848. С. 28].
• Там же: «Видя волкъ козу, забываетъ и грозу» [Снегирев 1848. С. 33].
• Там же: «Визгливая собака волку корысть» [Снегирев 1848. С. 33].
• Там же: «Виноватъ волкъ, что козу ободралъ, не права и коза, что въ лѣсъ зашла» [Снегирев 1848. С. 34].
• Там же: «Волка бояться, такъ и въ лѣсъ не ходить» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волка ноги кормятъ» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкомъ родясь, лисицей не бывать» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волку зима за обычай» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкъ и изъ счета овецъ крадетъ» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкъ и всякой годъ линяетъ, а нравъ не переменяетъ» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкъ кормленой, жидъ крещеной, а недругъ примиреной» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ не глядитъ на хозяйску заботу, а тащитъ овецъ и изъ щета и безъ щета» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ не голъ, есть на нем шуба, да и пришита» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ овецъ изъ щету беретъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ не придетъ, курица не закудахчетъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ овецъ не соберетъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ и больной съ овцой управится» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ то на волѣ, да и воетъ доволѣ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Из псковских пословиц и поговорок XVII в. в записи Тённи Фенне: «Которой с волком живет, тому с волком воёт» (перевод: «Кто с волком живет, тот по-волчьи воёт» [МСДР 1989. С. 344, 349].
• «Повести или пословицы всенароднейшыя по алфавиту» (сборник XVII в.): «Бояться волков — быть без грибков» [МСДР 1989. С. 356; ср. также: Снегирев 1848. С. 21].
• Там же: «Бежит волчок на супрятку» [МСДР 1989. С. 356].
• Там же: «Волка ловят не голкою [но] уловкою» [МСДР 1989. С. 359; ср. также: Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волки бы сыти, а овцы бы целы» [МСДР 1989. С. 359].
• Там же: «Видя волк козу, забывает грозу» [МСДР 1989. С. 359].
• Там же: «Добр волк до овец, да пасти ему не дадут» [МСДР 1989. С. 365].
• Там же: «Дай бог нашему теляти волка поймати» [МСДР 1989. С. 366].
• Там же: «Зевает волк не етчи, ожидает он овечки» [МСДР 1989. С. 372].
• Там же: «Как волк носил — нихто не видал, а как волка понесли — всяк видит» [МСДР 1989. С. 375].
• Там же: «Куды волк глядит, туды он и бежит» [МСДР 1989. С. 375].
• Там же: «Ленивому медведь в поле, а волк за вороты» [МСДР 1989. С. 377].
• Там же: «Ловит волчок роковую овечку» [МСДР 1989. С. 377].
• Там же: «Не за то волка бьют, что он сер, за то, что съел» [МСДР 1989. С. 382].
• Там же: «Огласила волка мирская голка» [МСДР 1989. С. 385].
• Там же: «Плоха волка и телята лижут» [МСДР 1989. С. 385].
• Там же: «Приняв волк козла, употчивал без зла» [МСДР 1989. С. 386].
• Там же: «Сердитая собака волку корысть» [МСДР 1989. С. 390].
• Пословицы и поговорки конца XVII — начала XVIII в. (по рукописному сборнику Петровского времени): «Волков ловят не голкою, но уловкою» [МСДР 1989. С. 404].
• Там же: «Толко бы на волка не собака, а на девку не робята: оне бы и в день воровали» [МСДР 1989. С. 406].
• Там же: «Вперед не забегай, чтоб волки не съели» [МСДР 1989. С. 408].
• Пословицы и поговорки в сборниках начала XVIII в.: «Голодной волк и завертки рвет» [МСДР 1989. С. 411; ср. также: Снегирев 1848. С. 72].
• Там же: «Нашему ли теляти волка поимати» [МСДР 1989. С. 413].
• Там же: «Волка на собак в помочь не зови» [МСДР 1989. С. 416; ср. также: Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Захохочешь волком» [МСДР 1989. С. 417].
• Там же: «Волк по волчью и рвет» [МСДР 1989. С. 420].
• Там же: «На волке волча и шерсть» [МСДР 1989. С. 420].
• Из «Русских народных пословиц и притч» И.М. Снегирева (1848): «Аще ся въвадитъ волкъ въ овцѣ, то выноситъ все стадо, аще не убьютъ его» [Снегирев 1848. С. 6].
• Там же: «Баловливая овца волку корысть» [Снегирев 1848. С. 8].
• Там же: «Бѣжалъ отъ волка, а попалъ на медвѣдя» [Снегирев 1848. С. 28].
• Там же: «Видя волкъ козу, забываетъ и грозу» [Снегирев 1848. С. 33].
• Там же: «Визгливая собака волку корысть» [Снегирев 1848. С. 33].
• Там же: «Виноватъ волкъ, что козу ободралъ, не права и коза, что въ лѣсъ зашла» [Снегирев 1848. С. 34].
• Там же: «Волка бояться, такъ и въ лѣсъ не ходить» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волка ноги кормятъ» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкомъ родясь, лисицей не бывать» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волку зима за обычай» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкъ и изъ счета овецъ крадетъ» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкъ и всякой годъ линяетъ, а нравъ не переменяетъ» [Снегирев 1848. С. 36].
• Там же: «Волкъ кормленой, жидъ крещеной, а недругъ примиреной» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ не глядитъ на хозяйску заботу, а тащитъ овецъ и изъ щета и безъ щета» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ не голъ, есть на нем шуба, да и пришита» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ овецъ изъ щету беретъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ не придетъ, курица не закудахчетъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ овецъ не соберетъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ и больной съ овцой управится» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Волкъ то на волѣ, да и воетъ доволѣ» [Снегирев 1848. С. 37].
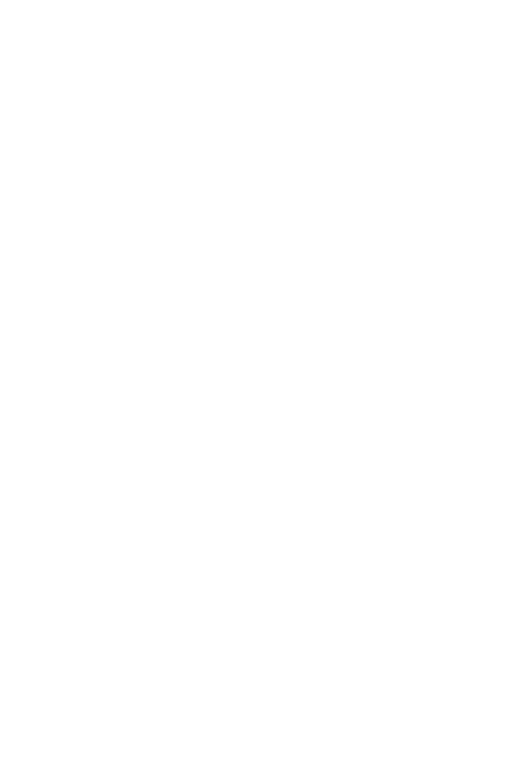
«Волцы» воют на поле Куликовом.
• Там же: «Волкъ коню не товарищъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Дай Богъ нашему теляти волка съѣсть» [Снегирев 1848. С. 82].
• Из «Пословиц русского народа» В.И. Даля (1-е изд. 1862): «Волк в овечьей шубе (или: шкуре). Волк в овчине» [Даль 1957. С. 50].
• Там же: «Волк и в овечьей шкуре не укроется. Знать волка и в овечьей шубе (шкуре)» [Даль 1957. С. 50].
• Там же: «Волк дорогу перебежит — к счастью» [Даль 1957. С. 79].
• Там же: «Лисий хвост, да волчий рот. И волчий рот (зубы), и лисий хвост» [Даль 1957. С. 660].
• Там же: «Где в волчьей нагольной (шубе), где в лисьей под плисом» [Даль 1957. С. 660].
• Там же: «Глядит лисой, а пахнет волком. Волчья кайка, да лисья незнайка» [Даль 1957. С. 660].
• Там же: «И волки сыты, и овцы целы» [Даль 1957. С. 665].
• Там же: «Пожалел волк кобылу: покинул хвост да гриву» [Даль 1957. С. 665].
• Там же: «Пойми волка слезы. Верь волчьим слезам» [Даль 1957. С. 665].
• «Русское народное остроумие» (1883): «Попалъ въ стаю, лай не лай, а хвостомъ виляй» [РНО 1883. С. 9].
• Там же: «Волкъ каждый годъ линяетъ, а все сѣръ бываетъ» [РНО 1883. С. 16].
• Там же: «На волка помолвка, кобылу зайцы съели» [РНО 1883. С. 16, 23].
• Там же: «Дешево волкъ въ пастухи нанимается, да мiръ еще подумываетъ» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Звалъ волкъ козъ на пиръ, да за гостинцами нейдутъ» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Не прикидывайся овцою, волкъ съѣстъ» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Пожалѣлъ волкъ кобылу: оставилъ хвостъ да гриву» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Не спѣши коза, всѣ волки твои будутъ» [РНО 1883. С. 25].
• Там же: «Есть шуба и на волкѣ, да пришита» [РНО 1883. С. 29].
• Там же: «Сердитая собака — волку корысть» [РНО 1883. С. 32].
• Там же: «Не суйся въ волки съ телячьимъ хвостомъ» [РНО 1883. С. 40].
• Там же: «Глядитъ, какъ волкъ на козу» [РНО 1883. С. 60].
• Там же: «Боится, какъ волкъ козы» [РНО 1883. С. 62].
• Там же: «Коли не волкъ, такъ дикiй голубь» [РНО 1883. С. 64].
И т.д., и т.п.
• Там же: «Волкъ коню не товарищъ» [Снегирев 1848. С. 37].
• Там же: «Дай Богъ нашему теляти волка съѣсть» [Снегирев 1848. С. 82].
• Из «Пословиц русского народа» В.И. Даля (1-е изд. 1862): «Волк в овечьей шубе (или: шкуре). Волк в овчине» [Даль 1957. С. 50].
• Там же: «Волк и в овечьей шкуре не укроется. Знать волка и в овечьей шубе (шкуре)» [Даль 1957. С. 50].
• Там же: «Волк дорогу перебежит — к счастью» [Даль 1957. С. 79].
• Там же: «Лисий хвост, да волчий рот. И волчий рот (зубы), и лисий хвост» [Даль 1957. С. 660].
• Там же: «Где в волчьей нагольной (шубе), где в лисьей под плисом» [Даль 1957. С. 660].
• Там же: «Глядит лисой, а пахнет волком. Волчья кайка, да лисья незнайка» [Даль 1957. С. 660].
• Там же: «И волки сыты, и овцы целы» [Даль 1957. С. 665].
• Там же: «Пожалел волк кобылу: покинул хвост да гриву» [Даль 1957. С. 665].
• Там же: «Пойми волка слезы. Верь волчьим слезам» [Даль 1957. С. 665].
• «Русское народное остроумие» (1883): «Попалъ въ стаю, лай не лай, а хвостомъ виляй» [РНО 1883. С. 9].
• Там же: «Волкъ каждый годъ линяетъ, а все сѣръ бываетъ» [РНО 1883. С. 16].
• Там же: «На волка помолвка, кобылу зайцы съели» [РНО 1883. С. 16, 23].
• Там же: «Дешево волкъ въ пастухи нанимается, да мiръ еще подумываетъ» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Звалъ волкъ козъ на пиръ, да за гостинцами нейдутъ» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Не прикидывайся овцою, волкъ съѣстъ» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Пожалѣлъ волкъ кобылу: оставилъ хвостъ да гриву» [РНО 1883. С. 23].
• Там же: «Не спѣши коза, всѣ волки твои будутъ» [РНО 1883. С. 25].
• Там же: «Есть шуба и на волкѣ, да пришита» [РНО 1883. С. 29].
• Там же: «Сердитая собака — волку корысть» [РНО 1883. С. 32].
• Там же: «Не суйся въ волки съ телячьимъ хвостомъ» [РНО 1883. С. 40].
• Там же: «Глядитъ, какъ волкъ на козу» [РНО 1883. С. 60].
• Там же: «Боится, какъ волкъ козы» [РНО 1883. С. 62].
• Там же: «Коли не волкъ, такъ дикiй голубь» [РНО 1883. С. 64].
И т.д., и т.п.
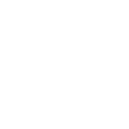
• «Волков бояться — в лес не ходить»;
• «Волка ноги кормят»;
• «Работа не волк, в лес не убежит»;
• «С волками жить — по-волчьи выть»;
• «Серый волк — зубами щёлк»;
• «Сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы» (с ироничной концовкой: «...и чтобы не был съеден пастух»);
• «Лезет в волки, а хвост собачий»;
• «Лиса и семерых волков проведёт»;
• «Волк в овечьей шкуре» (восходит к известному евангельскому выражению: Матф. 7:15);
• «Человек человеку — волк» (от лат. Homo homini lupus est — ставшее поговоркой выражение из комедии древнеримского поэта III‒II вв. до н.э. Плавта «Ослы»);
• «Тамбовский волк тебе товарищ»;
• «Волки позорные» (ср. в «Сатириконе» древнеримского писателя I в. Петрония Арбитра: «что скажешь, — кричу, — шкура ты, волчица позорная, чье смрадно и дыхание?» [Петроний 1989. С. 135]);
• «Морской волк» (о бывалом моряке; ср. одноимённый роман Джека Лондона);
• «Матёрый волк»;
• «Волчий аппетит»;
• «Волчий угол»;
• «Волчья сыть» (это выражение назвал лишь один мой знакомый — читавший на ночь своим детям русские сказки и былины).• «Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит» (один из моих знакомых в шутку предложил другую концовку: «...а у слона всё равно больше»);
• «Волков бояться — в лес не ходить»;
• «Волка ноги кормят»;
• «Работа не волк, в лес не убежит»;
• «С волками жить — по-волчьи выть»;
• «Серый волк — зубами щёлк»;
• «Сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы» (с ироничной концовкой: «...и чтобы не был съеден пастух»);
• «Лезет в волки, а хвост собачий»;
• «Лиса и семерых волков проведёт»;
• «Волк в овечьей шкуре» (восходит к известному евангельскому выражению: Матф. 7:15);
• «Человек человеку — волк» (от лат. Homo homini lupus est — ставшее поговоркой выражение из комедии древнеримского поэта III‒II вв. до н.э. Плавта «Ослы»);
• «Тамбовский волк тебе товарищ»;
• «Волки позорные» (ср. в «Сатириконе» древнеримского писателя I в. Петрония Арбитра: «что скажешь, — кричу, — шкура ты, волчица позорная, чье смрадно и дыхание?» [Петроний 1989. С. 135]);
• «Морской волк» (о бывалом моряке; ср. одноимённый роман Джека Лондона);
• «Матёрый волк»;
• «Волчий аппетит»;
• «Волчий угол»;
• «Волчья сыть» (это выражение назвал лишь один мой знакомый — читавший на ночь своим детям русские сказки и былины).
• «Волков бояться — в лес не ходить»;
• «Волка ноги кормят»;
• «Работа не волк, в лес не убежит»;
• «С волками жить — по-волчьи выть»;
• «Серый волк — зубами щёлк»;
• «Сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы» (с ироничной концовкой: «...и чтобы не был съеден пастух»);
• «Лезет в волки, а хвост собачий»;
• «Лиса и семерых волков проведёт»;
• «Волк в овечьей шкуре» (восходит к известному евангельскому выражению: Матф. 7:15);
• «Человек человеку — волк» (от лат. Homo homini lupus est — ставшее поговоркой выражение из комедии древнеримского поэта III‒II вв. до н.э. Плавта «Ослы»);
• «Тамбовский волк тебе товарищ»;
• «Волки позорные» (ср. в «Сатириконе» древнеримского писателя I в. Петрония Арбитра: «что скажешь, — кричу, — шкура ты, волчица позорная, чье смрадно и дыхание?» [Петроний 1989. С. 135]);
• «Морской волк» (о бывалом моряке; ср. одноимённый роман Джека Лондона);
• «Матёрый волк»;
• «Волчий аппетит»;
• «Волчий угол»;
• «Волчья сыть» (это выражение назвал лишь один мой знакомый — читавший на ночь своим детям русские сказки и былины).• «Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит» (один из моих знакомых в шутку предложил другую концовку: «...а у слона всё равно больше»);
• «Волков бояться — в лес не ходить»;
• «Волка ноги кормят»;
• «Работа не волк, в лес не убежит»;
• «С волками жить — по-волчьи выть»;
• «Серый волк — зубами щёлк»;
• «Сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы» (с ироничной концовкой: «...и чтобы не был съеден пастух»);
• «Лезет в волки, а хвост собачий»;
• «Лиса и семерых волков проведёт»;
• «Волк в овечьей шкуре» (восходит к известному евангельскому выражению: Матф. 7:15);
• «Человек человеку — волк» (от лат. Homo homini lupus est — ставшее поговоркой выражение из комедии древнеримского поэта III‒II вв. до н.э. Плавта «Ослы»);
• «Тамбовский волк тебе товарищ»;
• «Волки позорные» (ср. в «Сатириконе» древнеримского писателя I в. Петрония Арбитра: «что скажешь, — кричу, — шкура ты, волчица позорная, чье смрадно и дыхание?» [Петроний 1989. С. 135]);
• «Морской волк» (о бывалом моряке; ср. одноимённый роман Джека Лондона);
• «Матёрый волк»;
• «Волчий аппетит»;
• «Волчий угол»;
• «Волчья сыть» (это выражение назвал лишь один мой знакомый — читавший на ночь своим детям русские сказки и былины).
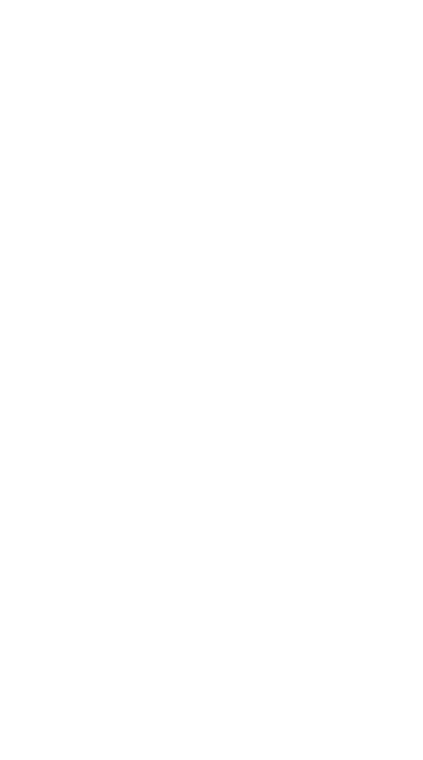
Деревянная скульптура «Тамбовский волк» на границе Мичуринского и Первомайского районов Тамбовской обл.
М.Д. Чулков в «АБеВеГе русских суеверий» сообщал: «Волкъ, Камчадалы во время праздника грѣховъ очищенїя, дѣлаютъ Волка изъ сладкой травы и медьвѣжьяго жиру, котораго при нѣкоторыхъ торжественныхъ обрядахъ съѣдаютъ. <...> А протчїе простаки и обманщики сушатъ сердце волчье, и истолокши его бросаютъ на дорогу въ то время, когда невѣста или женихъ ѣдутъ въ церковь, то будто отъ того лошади шарахнутся, и становяся надыбы далѣе не пойдутъ» [Чулков 1786. С. 68; о «волке» у камчадалов см.: Крашенинников II 1755. С. 94‒95].
По свидетельству А.Н. Афанасьева: «Для того, чтобы волки не трогали домашней скотины, въ новгородской губ. крестьяне бѣгаютъ вокругъ деревень съ колокольчиками, причитывая: „около двора желѣзный тынъ; чтобы черезъ этотъ тынъ не попалъ ни лютый звѣрь, ни гадъ, ни злой человѣкъ!“. Во время свадебныхъ поѣздовъ колдуны, на пагубу молодыхъ, бросаютъ на дорогу высушенное волчье сердце; чара эта, по мнѣнiю простонародья, заставляетъ лошадей становиться на дыбы и ломать повозки. Волчья шерсть и волчiй хвостъ употребляются вѣдьмами въ чарахъ, съ цѣлiю произвести непогоду» [Афанасьев I 1865. С. 767]. Иногда вместо волчьих атрибутов колдуны используют медвежьи: «Кладут перед свадебным поездом нитку, смазанную медвежьим салом», или мажут медвежьим салом конскую сбрую: «лошади встанут, молодым житья не будет» [Мороз 2013. С. 479, 196‒197, 201 (№ 260, 262, 267)].
Другой способ «испортить» свадьбу, который применяли колдуны, — напустить «собачью икоту»: «если знатка не пригласят на свадьбу, и вот молодой или молодому там — называлася какая-то икота. Эту икоту спустят тебе, молодой или жениху — ты, где бы ни стоял, в очереди хоть народу сто человек, хоть пятьдесят человек, какую икоту спустит — спустят икоту петушиную — ты в очереди закукарекаешь, спустят собачью икоту — ты залаешь» [Мороз 2013. С. 206‒207 (№ 280)].
У южных славян до недавнего времени различные волчьи атрибуты широко применялись в качестве средств защиты от вредоносной магии: «Как обереги от порчи или сглаза используется волчья голова, пасть, зубы, шерсть, сердце, глаз, сушеное волчье мясо, особенной магической силой обладает шапка, сшитая из волчьей шкуры. Кроме того, при лечении некоторых болезней используются растения, названия которых связаны с волком: слов. volčja jabolka (цикламен), volčji mleček (молочай)» [Мороз 2000. С. 83].
А.В. Гура, учёный, много лет исследовавший символику животных в славянской народной традиции, сообщает: «Части тела и имя волка используются для приобретения отпугивающих свойств, агрессивности, жизненной силы и здоровья и имеют отвращающую, потенцирующую и лечебную функцию. У сербов глаз, сердце, зубы, когти, шерсть волка часто служат амулетами и лечебными средствами. Коготь волка зашивают в одежду ребенку в качестве оберега от сглаза (южн. Сербия, Копаоник, р-н р. Ибар; Косово). В Македонии волчий зуб носят как амулет (Охрид). Для оберега пчел вешают на леток улья когти и зубы волка (Серадзское воев.), выставляют в пчельнике волчью голову (Сербия). Чтобы пчелы давали больше меда, их окуривают кончиком волчьего хвоста (Витебская губ., Полоцкий у., Артейковичи). Чтобы они были сильнее чужих пчел, вставляют в леток улья высушенную волчью гортань (Люблинское воев., Жешовское воев.). Волчьей гортанью обтирают зубы скотине, чтобы она хорошо ела (совр. Катовицкое воев., Олькушский пов., р-н Славкова), смотрят через нее, чтобы вызвать у себя чувство ненависти (укр. Закарпатье). Если кормить через нее ребенка, он будет прожорливым, сильным, как волк, и будет иметь негнущиеся конечности (Польша, зап. Поморье). При болезни горла и кашле пьют воду, пролитую через волчью гортань (вост. Польша, Подбуж, Седлецкая губ., Радзыньский пов., Плуда; Витебская губ.; Болгария, Кюстендильский край), а при эпидемии дифтерита подмешивают волчий помет в хлеб, раздаваемый всем жителям села (Кюстендильский край). Сквозь волчью челюсть продевают новорожденного, чтобы предохранить его от болезней и всякого зла, или больного ребенка (Сербия) — ср. серб.-хорв. јак (здрав) као вук [здоров, как волк].
Волчий хвост носят при себе от болезней (Россия), вывешивают в качестве оберега на конюшне (Польша). Колдун может окурить волчьей шерстью скрипку, сказав „rez wouk barana“ [грызи, волк, барана], и у скрипача на свадьбе полопаются все струны, так как они изготовлялись из бараньих жил (Замойская Русь (совр. Замойское воев.)). От испуга ребенка окуривают волчьей шерстью (вост. Сербия, Алексинацкое Поморавье), обтирают волчьей кожей, говоря: „Да ми биднеш ка вук“ [Чтобы был как волк] (Косово). Кусок волчьей кожи в качестве амулета зашивают ребенку в шапку и коню в недоуздок (Македония, Охрид). Пояс из волчьей кожи носила женщина, если у нее умирали дети (Польша).
Волчьей костью лечат наросты на теле и панариций (Серадзское воев. и пов., Кленова). Поевший волчьего мяса способен лечить наросты и опухоли путем их кусания (Польша, зап. Поморье). Копченым мясом волка окуривают скотину, если она мочится кровью (вост. Польша, Замосць). В болгарских и сербских эпических песнях юнаки, отправляясь в бой, надевают шапку или накидку из волчьей кожи. Волчье сердце носят как амулет (Болгария), так как оно придает храбрости, а также носят больные эпилепсией (Косово). Кусок волчьей шкуры зашивают в одежду детям, страдающим эпилепсией, поскольку считается, что эта болезнь боится волка (Болгария). При болезни легких едят легкие, сердце и печень волка (Брестская обл., Лунинецкий р-н, Велута). Волчьим жиром или салом мажут раны, ушибы, лечат ревматизм (гуцулы, р-н Микуличина, Татаров).
Волчий зуб помещают в кормушку для скота, чтобы скот не терял аппетит (совр. Катовицкое воев.), Олькушский пов., р-н Славкова). Когда у ребенка прорезываются зубы, дают ему грызть волчий зуб (Витебский у., Веляшковичи), вешают его на шею (Харьковская губ., Волынская губ.; Черногория, Грбаль) или дают в качестве игрушки (Серадзское воев.). Прорезавшиеся у ребенка зубы из суеверных соображений называют другим словом — вучићи (Черногория, Грбаль).
Нередко оберегом служит само упоминание или имя волка. О появившемся на свет теленке (жеребенке, поросенке) говорят: „Это не теленок, а волченок“ (Смоленская губ.). Повитуха крестит новорожденному лоб, живот и ноги со словами: „На глава кръст, в сърце ангел, под нозе вълк“ [На голове крест, в сердце ангел, под ногами волк] (Македония, р-н Скопья). У сербов, если в семье умирают дети и родится мальчик, то, чтобы уберечь его от смерти, повитуха кричит: „Роди вучица вука свијету на знање а ђетету на здравље!“ [Родила волчица волка всему свету к сведению, а ребенку на здоровье!]. Или же дают в этом случае мальчику имя Вук, так как верят, что ведьма (вештица), поедающая детей, на „волка“ не покусится; имя Вуко дают также, чтобы сын был здоровым и сильным, как волк (Черногория, Грбаль). С той же целью подобные имена — Вълчо, Вълкан, Вучко, Вукана — дают слабым и больным детям болгары и македонцы, например при заболевании эпилепсией» [Гура 1997. С. 153‒155].
М.Д. Чулков в «АБеВеГе русских суеверий» сообщал: «Волкъ, Камчадалы во время праздника грѣховъ очищенїя, дѣлаютъ Волка изъ сладкой травы и медьвѣжьяго жиру, котораго при нѣкоторыхъ торжественныхъ обрядахъ съѣдаютъ. <...> А протчїе простаки и обманщики сушатъ сердце волчье, и истолокши его бросаютъ на дорогу въ то время, когда невѣста или женихъ ѣдутъ въ церковь, то будто отъ того лошади шарахнутся, и становяся надыбы далѣе не пойдутъ» [Чулков 1786. С. 68; о «волке» у камчадалов см.: Крашенинников II 1755. С. 94‒95].
По свидетельству А.Н. Афанасьева: «Для того, чтобы волки не трогали домашней скотины, въ новгородской губ. крестьяне бѣгаютъ вокругъ деревень съ колокольчиками, причитывая: „около двора желѣзный тынъ; чтобы черезъ этотъ тынъ не попалъ ни лютый звѣрь, ни гадъ, ни злой человѣкъ!“. Во время свадебныхъ поѣздовъ колдуны, на пагубу молодыхъ, бросаютъ на дорогу высушенное волчье сердце; чара эта, по мнѣнiю простонародья, заставляетъ лошадей становиться на дыбы и ломать повозки. Волчья шерсть и волчiй хвостъ употребляются вѣдьмами въ чарахъ, съ цѣлiю произвести непогоду» [Афанасьев I 1865. С. 767]. Иногда вместо волчьих атрибутов колдуны используют медвежьи: «Кладут перед свадебным поездом нитку, смазанную медвежьим салом», или мажут медвежьим салом конскую сбрую: «лошади встанут, молодым житья не будет» [Мороз 2013. С. 479, 196‒197, 201 (№ 260, 262, 267)].
Другой способ «испортить» свадьбу, который применяли колдуны, — напустить «собачью икоту»: «если знатка не пригласят на свадьбу, и вот молодой или молодому там — называлася какая-то икота. Эту икоту спустят тебе, молодой или жениху — ты, где бы ни стоял, в очереди хоть народу сто человек, хоть пятьдесят человек, какую икоту спустит — спустят икоту петушиную — ты в очереди закукарекаешь, спустят собачью икоту — ты залаешь» [Мороз 2013. С. 206‒207 (№ 280)].
У южных славян до недавнего времени различные волчьи атрибуты широко применялись в качестве средств защиты от вредоносной магии: «Как обереги от порчи или сглаза используется волчья голова, пасть, зубы, шерсть, сердце, глаз, сушеное волчье мясо, особенной магической силой обладает шапка, сшитая из волчьей шкуры. Кроме того, при лечении некоторых болезней используются растения, названия которых связаны с волком: слов. volčja jabolka (цикламен), volčji mleček (молочай)» [Мороз 2000. С. 83].
А.В. Гура, учёный, много лет исследовавший символику животных в славянской народной традиции, сообщает: «Части тела и имя волка используются для приобретения отпугивающих свойств, агрессивности, жизненной силы и здоровья и имеют отвращающую, потенцирующую и лечебную функцию. У сербов глаз, сердце, зубы, когти, шерсть волка часто служат амулетами и лечебными средствами. Коготь волка зашивают в одежду ребенку в качестве оберега от сглаза (южн. Сербия, Копаоник, р-н р. Ибар; Косово). В Македонии волчий зуб носят как амулет (Охрид). Для оберега пчел вешают на леток улья когти и зубы волка (Серадзское воев.), выставляют в пчельнике волчью голову (Сербия). Чтобы пчелы давали больше меда, их окуривают кончиком волчьего хвоста (Витебская губ., Полоцкий у., Артейковичи). Чтобы они были сильнее чужих пчел, вставляют в леток улья высушенную волчью гортань (Люблинское воев., Жешовское воев.). Волчьей гортанью обтирают зубы скотине, чтобы она хорошо ела (совр. Катовицкое воев., Олькушский пов., р-н Славкова), смотрят через нее, чтобы вызвать у себя чувство ненависти (укр. Закарпатье). Если кормить через нее ребенка, он будет прожорливым, сильным, как волк, и будет иметь негнущиеся конечности (Польша, зап. Поморье). При болезни горла и кашле пьют воду, пролитую через волчью гортань (вост. Польша, Подбуж, Седлецкая губ., Радзыньский пов., Плуда; Витебская губ.; Болгария, Кюстендильский край), а при эпидемии дифтерита подмешивают волчий помет в хлеб, раздаваемый всем жителям села (Кюстендильский край). Сквозь волчью челюсть продевают новорожденного, чтобы предохранить его от болезней и всякого зла, или больного ребенка (Сербия) — ср. серб.-хорв. јак (здрав) као вук [здоров, как волк].
Волчий хвост носят при себе от болезней (Россия), вывешивают в качестве оберега на конюшне (Польша). Колдун может окурить волчьей шерстью скрипку, сказав „rez wouk barana“ [грызи, волк, барана], и у скрипача на свадьбе полопаются все струны, так как они изготовлялись из бараньих жил (Замойская Русь (совр. Замойское воев.)). От испуга ребенка окуривают волчьей шерстью (вост. Сербия, Алексинацкое Поморавье), обтирают волчьей кожей, говоря: „Да ми биднеш ка вук“ [Чтобы был как волк] (Косово). Кусок волчьей кожи в качестве амулета зашивают ребенку в шапку и коню в недоуздок (Македония, Охрид). Пояс из волчьей кожи носила женщина, если у нее умирали дети (Польша).
Волчьей костью лечат наросты на теле и панариций (Серадзское воев. и пов., Кленова). Поевший волчьего мяса способен лечить наросты и опухоли путем их кусания (Польша, зап. Поморье). Копченым мясом волка окуривают скотину, если она мочится кровью (вост. Польша, Замосць). В болгарских и сербских эпических песнях юнаки, отправляясь в бой, надевают шапку или накидку из волчьей кожи. Волчье сердце носят как амулет (Болгария), так как оно придает храбрости, а также носят больные эпилепсией (Косово). Кусок волчьей шкуры зашивают в одежду детям, страдающим эпилепсией, поскольку считается, что эта болезнь боится волка (Болгария). При болезни легких едят легкие, сердце и печень волка (Брестская обл., Лунинецкий р-н, Велута). Волчьим жиром или салом мажут раны, ушибы, лечат ревматизм (гуцулы, р-н Микуличина, Татаров).
Волчий зуб помещают в кормушку для скота, чтобы скот не терял аппетит (совр. Катовицкое воев.), Олькушский пов., р-н Славкова). Когда у ребенка прорезываются зубы, дают ему грызть волчий зуб (Витебский у., Веляшковичи), вешают его на шею (Харьковская губ., Волынская губ.; Черногория, Грбаль) или дают в качестве игрушки (Серадзское воев.). Прорезавшиеся у ребенка зубы из суеверных соображений называют другим словом — вучићи (Черногория, Грбаль).
Нередко оберегом служит само упоминание или имя волка. О появившемся на свет теленке (жеребенке, поросенке) говорят: „Это не теленок, а волченок“ (Смоленская губ.). Повитуха крестит новорожденному лоб, живот и ноги со словами: „На глава кръст, в сърце ангел, под нозе вълк“ [На голове крест, в сердце ангел, под ногами волк] (Македония, р-н Скопья). У сербов, если в семье умирают дети и родится мальчик, то, чтобы уберечь его от смерти, повитуха кричит: „Роди вучица вука свијету на знање а ђетету на здравље!“ [Родила волчица волка всему свету к сведению, а ребенку на здоровье!]. Или же дают в этом случае мальчику имя Вук, так как верят, что ведьма (вештица), поедающая детей, на „волка“ не покусится; имя Вуко дают также, чтобы сын был здоровым и сильным, как волк (Черногория, Грбаль). С той же целью подобные имена — Вълчо, Вълкан, Вучко, Вукана — дают слабым и больным детям болгары и македонцы, например при заболевании эпилепсией» [Гура 1997. С. 153‒155].
С волком бывают связаны и неблагоприятные приметы. Так, волк, забежавший в деревню, служит предвестьем неурожая (Владимирская губ., Меленковский у., Домнино). По поверью, волки прокладывают свои тропы туда, где будет война (Вологодская губ., Кадниковский у.). Множество волков сулит войну (Вологодская губ., Кадниковский у., Троичина; Македония, Прилеп) или мор скота (Прилеп)» [Гура 1997. С. 155‒156].
В увидевшей свет в 2009 г. «Большой книге примет», содержащей не только старинные, но и новейшие, отражающие реалии современной русской жизни приметы, читаем следующее [БКП 2009. С. 68‒69]:
• Волк дорогу перебежал — к счастью.
• Волки близко к деревне подходят зимой — к голоду, недороду и дороговизне хлеба.
• Волки воют под жильем (близ жилья) — к морозу.
• Волк на пути — к добру.
• Волк снится — к ссоре с тем, кто сильнее вас.
• Если на Зиновея [Зиновий и Зиновия, 30 октября, — прим. В.] волки стаями ходят — к голоду, мору или войне.
• Много волков в лесу — к войне.
• Пока волки не появляются — и зимы нет.
По народным верованиям, если снится, что волк или собака нападает на женщину, у последней вскоре может появиться брачный партнёр: «волк откусил руку S (жен.) — S вышла замуж (орловск.)»; «собака укусила S — к S сватается жених (житомирск.)» [Лазарева 2020. С. 206]. «В Полесье волк во сне означает для девушки жениха (Брестская обл., Малоритский р-н, Олтуш, Лунинецкий р-н, Редигирово) и предвещает ей приход сватов (Брестская обл., Малоритский р-н, Олтуш, Мокраны, Мыслячи, Ровенская обл., Дубровицкий р-н, Озерск, зап. автора, Залишаны, Гомельская обл., Хвойницкий р-н, Золотуха, зап. А.Б. Страхова, Киевская обл., Чернобыльский р-н, Копачи, зап. О.Б. Шаталовой)» [Гура 1997. С. 126]. В одном полесском рукописном соннике XX в. приведено такое соответствие: «Волк — друг жизни» [Гура 2002‒2. С. 83]. Ср. однако: «две собаки лают на S — двое людей ругают S (ульяновск.)»; «собаки нападают на S — S конфликтует с родственниками»; «собака кусает S — конфликт с соседями (житомирск.)» [Лазарева 2020. С. 206]. Собака во сне может означать «врага» [Садова 2021. С. 128]. «Видеть собаку — объявился враг и клеветник»; «Собаку увидеть — увидеться с другом»; «Если собака укусила до крови — врагом стал родственник; если без крови — близкий, но неродственный человек»; «Видеть собачью драку — присутствовать при ссоре и драке; с кровью — родственников, без крови — сторонних, соседей» [Садова 2021. С. 136]. «Собака во сне лает — к гостям» [Садова 2021. С. 140]. «Собаку во сне видеть — к приезду друга» [Садова 2021. С. 141]. Волк может сниться «к болезни», однако может быть предзнаменованием и чего-то хорошего, когда он «отождествляется с собакой» [Садова 2021. С. 141]. «Собака — к добру» [Садова 2021. —С. 142]. «Если волка во сне увидишь — значит, к другу, медведя и собаку — тож» [Садова 2021. С. 122]. «Собака приснится — будет приятное»; «Собака если снится, она хорошая, она человека спасёт» [Садова 2021. С. 125]. И т.п.
Конечно, относиться к приметам можно по-разному. С одной стороны, многие дошедшие до нашего времени приметы являют собой ценнейший в практическом плане «результат многовековых наблюдений» [Жарков 1954. С. 12] народа, многих поколений людей, живших преимущественно в ладу с природой; с другой стороны, немало среди народных примет и «ничем не обоснованных, <...> явных заблуждений, <...> диких предрассудков, по большей части на религиозной почве, <...> не совместимых с научными знаниями» [Жарков 1954. С. 13]. Однако, по-видимому, можно согласиться со следующим замечанием автора книги «Народные приметы и предсказание погоды»: «Наряду с действительно сомнительными приметами существуют вполне согласные с научными доводами и потому бесспорные» [Жарков 1954. С. 13].
Нам же в данном случае интересен, прежде всего, сам образ мысли народа, запечатлённый в фольклоре, в том числе в приметах и в этнографических сонниках, — вне зависимости от «истинности» или «ложности» описываемых в них народных верований.
С волком бывают связаны и неблагоприятные приметы. Так, волк, забежавший в деревню, служит предвестьем неурожая (Владимирская губ., Меленковский у., Домнино). По поверью, волки прокладывают свои тропы туда, где будет война (Вологодская губ., Кадниковский у.). Множество волков сулит войну (Вологодская губ., Кадниковский у., Троичина; Македония, Прилеп) или мор скота (Прилеп)» [Гура 1997. С. 155‒156].
В увидевшей свет в 2009 г. «Большой книге примет», содержащей не только старинные, но и новейшие, отражающие реалии современной русской жизни приметы, читаем следующее [БКП 2009. С. 68‒69]:
• Волк дорогу перебежал — к счастью.
• Волки близко к деревне подходят зимой — к голоду, недороду и дороговизне хлеба.
• Волки воют под жильем (близ жилья) — к морозу.
• Волк на пути — к добру.
• Волк снится — к ссоре с тем, кто сильнее вас.
• Если на Зиновея [Зиновий и Зиновия, 30 октября, — прим. В.] волки стаями ходят — к голоду, мору или войне.
• Много волков в лесу — к войне.
• Пока волки не появляются — и зимы нет.
По народным верованиям, если снится, что волк или собака нападает на женщину, у последней вскоре может появиться брачный партнёр: «волк откусил руку S (жен.) — S вышла замуж (орловск.)»; «собака укусила S — к S сватается жених (житомирск.)» [Лазарева 2020. С. 206]. «В Полесье волк во сне означает для девушки жениха (Брестская обл., Малоритский р-н, Олтуш, Лунинецкий р-н, Редигирово) и предвещает ей приход сватов (Брестская обл., Малоритский р-н, Олтуш, Мокраны, Мыслячи, Ровенская обл., Дубровицкий р-н, Озерск, зап. автора, Залишаны, Гомельская обл., Хвойницкий р-н, Золотуха, зап. А.Б. Страхова, Киевская обл., Чернобыльский р-н, Копачи, зап. О.Б. Шаталовой)» [Гура 1997. С. 126]. В одном полесском рукописном соннике XX в. приведено такое соответствие: «Волк — друг жизни» [Гура 2002‒2. С. 83]. Ср. однако: «две собаки лают на S — двое людей ругают S (ульяновск.)»; «собаки нападают на S — S конфликтует с родственниками»; «собака кусает S — конфликт с соседями (житомирск.)» [Лазарева 2020. С. 206]. Собака во сне может означать «врага» [Садова 2021. С. 128]. «Видеть собаку — объявился враг и клеветник»; «Собаку увидеть — увидеться с другом»; «Если собака укусила до крови — врагом стал родственник; если без крови — близкий, но неродственный человек»; «Видеть собачью драку — присутствовать при ссоре и драке; с кровью — родственников, без крови — сторонних, соседей» [Садова 2021. С. 136]. «Собака во сне лает — к гостям» [Садова 2021. С. 140]. «Собаку во сне видеть — к приезду друга» [Садова 2021. С. 141]. Волк может сниться «к болезни», однако может быть предзнаменованием и чего-то хорошего, когда он «отождествляется с собакой» [Садова 2021. С. 141]. «Собака — к добру» [Садова 2021. —С. 142]. «Если волка во сне увидишь — значит, к другу, медведя и собаку — тож» [Садова 2021. С. 122]. «Собака приснится — будет приятное»; «Собака если снится, она хорошая, она человека спасёт» [Садова 2021. С. 125]. И т.п.
Конечно, относиться к приметам можно по-разному. С одной стороны, многие дошедшие до нашего времени приметы являют собой ценнейший в практическом плане «результат многовековых наблюдений» [Жарков 1954. С. 12] народа, многих поколений людей, живших преимущественно в ладу с природой; с другой стороны, немало среди народных примет и «ничем не обоснованных, <...> явных заблуждений, <...> диких предрассудков, по большей части на религиозной почве, <...> не совместимых с научными знаниями» [Жарков 1954. С. 13]. Однако, по-видимому, можно согласиться со следующим замечанием автора книги «Народные приметы и предсказание погоды»: «Наряду с действительно сомнительными приметами существуют вполне согласные с научными доводами и потому бесспорные» [Жарков 1954. С. 13].
Нам же в данном случае интересен, прежде всего, сам образ мысли народа, запечатлённый в фольклоре, в том числе в приметах и в этнографических сонниках, — вне зависимости от «истинности» или «ложности» описываемых в них народных верований.
Тем не менее, попытки различными методами предсказывать судьбу известны у славянских народов с глубокой древности вплоть до нашего времени: «В традиционной русской культуре, как и в других обществах, не вступивших в период модернизации, гадание играло важную социальную роль для всего сообщества. <...> Русские крестьяне <...> верили, что от правильного совершения ритуала или истолкования предзнаменований зависят жизнь и смерть, успех и неудача. Различные по характеру и функциям способы гадания играли первостепенную роль в повседневной жизни: с их помощью можно было понять значение происходящего и попытаться заглянуть в будущее» [Вигзелл 2007. — Вигзелл, Фейт. Читая фортуну: гадательные книги в России (вторая половина XVIII‒XX вв.) / Пер. с англ., предисл. и коммент. А.А. Панченко. М.: ОГИ, 2007. С. 72].
Среди «инструментов» гадания у славянских (и некоторых других) народов следует особо выделить волчий вой и собачий лай. По свидетельству А.Н. Афанасьева: «Вой волковъ почитался вѣщимъ и у славянъ, и у нѣмцевъ» [Афанасьев I 1865. С. 765].
Искусство гадания по волчьему вою в древности, вполне вероятно, у славян могло представлять из себя целую «науку», наподобие мантического искусства древнеримских авгуров (ius augur(i)um), предсказывавших по полёту и крикам птиц: «Вой волков предвещает голод (Россия; Малопольша, р-н Тарнобжега и Ниско), пастью вверх — голод, прямо — войну, к земле — мор (совр. Тарновское воев., Мысленице, р-н Радома, Бысин), под жильем — войну или мороз (Россия), осенью — дожди, зимой — метель (Гродненская губ., Волковыский у.). В Витебской губ. по вою волков вблизи жилья на Святки определяют время нападения их на стадо: если воют в ночь под Рождество, то будут нападать весной, если под Новый год — летом, если под Крещение — осенью (Полоцкий у., Махирово)» [Гура 1997. С. 156]. Согласно отречённой книге «Волховник» (сохранились упоминания о ней), славяне также гадали по пенью птиц: «Волховникъ волхвующе птицами и звѣрми, еже есть... воронограи, куроклик...» [Срезневский I 1893. Ст. 303].
В Лаврентьевском списке «Повести временных лет» под 6605 (1097) г. находим свидетельство о том, как половецкий хан Боняк по волчьему вою предсказал победу в грядущей битве: «Давыдъ бо в то чинь пришедъ из Ляховъ, и посади жену свою у Володаря, а сам иде в Половцѣ. И устрѣте ѝ Бонякъ, и воротися Давыдъ, и поидоста на угры. Идущема же има, сташа ночлѣгу, и яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отъѣха от вой, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози. Бонякъ же приѣхавъ повѣда Давыдови, яко „Побѣда ны есть на угры заутра“». — «Ибо Давыд в то время вернулся из Польши и посадил жену свою у Володаря, а сам пошел в Половецкую землю. И встретил его Боняк, и воротился Давыд, и пошли на венгров. Когда же они шли, остановились на ночлег; и когда наступила полночь, встал Боняк, отъехал от воинов и стал выть по-волчьи, и волк ответил воем на вой его, и завыло множество волков. Боняк же, вернувшись, поведал Давыду, что „победа у нас будет над венграми завтра“» [ПВЛ 1999. С. 115, 253 (перевод)].
Впрочем, собачий вой также считали в народе предвестником грядущих событий, чаще всего — несчастливых: «Собаки воютъ ночью — слышатъ волковъ и къ пожару» [Магницкий 1883. С. 12]. «Въ какую сторону воютъ собаки, въ той сторонѣ быть пожару: если передъ домомъ, то въ домѣ. Если собака воетъ передъ окошками, особенно больного, то непремѣнно смерть ему. Вообще вой собакъ считаютъ дурнымъ знакомъ» [Терещенко VI 1848. С. 9]. Ср. также у Г.И. Попова: «Если собака играетъ съ лошадью или разбалуется кошка — это вѣрная примѣта, что больной выздоровѣетъ. Напротивъ, если собака роетъ землю и воетъ, обративши морду на хозяйскую избу или по направленію къ церкви, кошка лежитъ подъ столомъ вверхъ ногами, скотина на дворѣ обнаруживаетъ безпричинное безпокойство — все это вѣрные признаки близкой смерти больного» [Попов 1903. С. 183].
Вообще, народная медицина во все времена была в какой-то мере связана с «магическим» мышлением: «При укушенiи бѣшеной собакой или волкомъ слѣдуетъ приложить къ ранѣ теплое голубиное мясо или, превративъ въ порошокъ высушенную пчелиную матку, одну половину принять внутрь, а другой присыпать укушенное мѣсто» [Попов 1903. С. 275 (гл. «IX. Грубо-эмпирическiя, нелѣпыя и вредныя средства»)]. «Сало собачье в Воронежской губ. пили в молоке при туберкулезе. Собак даже специально откармливали для этого» [Торэн 1996. С. 114]. И т.д.
В языческих верованиях армян известны особые духи, которые в обличии собак зализывали и тем самым исцеляли раны, нанесенные воину в бою: «В древней армянской литературе существует несколько указаний на особые существа, считавшиеся чем-то вроде полубогов или духов, называемые аралезами (в переводе это, предположительно, значит постоянно лижущие, по другому варианту перевода — „лижущие Ара“). Эти аралезы считались покровителями раненых и убитых на полях сражений. По верованиям армян аралезы в ночное время сходили сверху на землю, принимая, по Езнику, образ собаки, опускались к раненым и павшим в битвах, лизали их раны, которые после этого заживали, и тогда раненые исцелялись от своих страданий, а убитые воскресали. Такие указания встречаются у философа Езника, Фауста Бюзанда, Моисея Хоренского и Себеоса» [Оганесян I 1946. С. 52].
В пору Зимних Святок по собачьему лаю девицы в русских деревнях гадали о возможной грядущей свадьбе: «где сабаки залаяли или шум какой — туда и атдадут...» (зап. в 1998 г. в г. Серафимовиче от Терсковой Н.Н., 1910 г.р.) [Рыблова 2016. С. 49]; «Собака залает — в той стороне и судьба» (зап. в Белозерском р-не Вологодской обл., в д. Орлово от Петровой Анисьи Ивановны) [Адоньева 2006. С. 488]. «АБеВеГа русских суеверий» М.Д. Чулкова сообщает, что на Святки девицы гадали о женихах, слушая, каким именно голосом лает собака: «Полютъ снѣгъ, и въ которую сторону броситъ оной, то и слушаетъ тамо, какая прежде собака залаетъ, ежели толстымъ голосомъ, то быть ей за старымъ мужемъ, а когда тонкимъ, то быть за молодымъ» [Чулков 1786. С. 150]. М. Георгиевский, описывая празднование Святок в деревнях Олонецкой губернии, приводил соответствующий обрядовый текст: «Чтобы узнать, въ какой сторонѣ живетъ суженый, для этого дѣвушки полютъ снѣгъ. Придя на перекрестки трехъ дорогъ, дѣвушки садятся на снѣгъ, предварительно растянувъ впередъ себя заднюю часть подола въ платьѣ, куда накладываютъ снѣга. Перебирая снѣгъ и проговоривъ: „полю, полю — бѣлинькiй снѣжокъ! Залай, залай, собачка, на суженой сторонкѣ. Покрылъ Господи земельку снѣжкомъ, а меня — повойничкомъ“; дѣвушки умолкаютъ и слушаютъ. Гдѣ залаетъ собака, тамъ и суженый живетъ» [Георгиевскiй II 1889. С. 515]. И.П. Сахаров, рассказывая о святочных девичьих гаданиях, приводил следующее описание ритуала, сопровождавшегося обрядовыми словами, в которых собака и волк, по сути, оказывались приравнены друг к другу: «Выходятъ къ забору и говорятъ: „Залай, залай, собаченька, залай сѣринькой волчекъ“. Въ которой стороне услышитъ дѣвушка лай, въ той сторонѣ будетъ жить замужемъ. Если лай раздается близъ дома, то это показываетъ, что отдадутъ замужъ не въ дальнюю сторону; если же лай будетъ тихiй, едва слышный, то будетъ выдана замужъ на чужую сторону» [Сахаров I 1841. С. 68 (в разделе: «Преданiя и сказанiя о Русскомъ чернокнижiи»)]. В Белоруссии, по сообщению А.Е. Богдановича, на Коляду девушки «захвативъ краюху хлѣба, выбѣгаютъ на „смалище“ (мѣсто, гдѣ обжигали кабана) и, кушая хлѣбъ, слушаютъ, въ какой сторонѣ раздастся звукъ — говоръ, лай собаки и т.п. — туда ей выйти замужъ» [Богданович 1895. С. 87]. И т.п.
Иногда встречаются и такие вот свидетельства: «Собака, успѣвшая стащить въ домѣ просвиру и съѣсть, какъ только заблаговѣстятъ къ обѣднѣ — начинаетъ выть» [Магницкий 1883. С. 43].
По сообщению французского путешественника XIX в. Ксавье Мармье [Marmier 1840], в Мекленбурге, население которого в значительной степени состояло из онемеченных полабо-балтийских славян-вендов, в народе верили, что собаки воют при приближении колдуна: «Эти колдуны друзья дьявола. <...> Одно их приближение заставляет ржать лошадей и выть собак» [Жих 2016. С. 22].
Тем не менее, попытки различными методами предсказывать судьбу известны у славянских народов с глубокой древности вплоть до нашего времени: «В традиционной русской культуре, как и в других обществах, не вступивших в период модернизации, гадание играло важную социальную роль для всего сообщества. <...> Русские крестьяне <...> верили, что от правильного совершения ритуала или истолкования предзнаменований зависят жизнь и смерть, успех и неудача. Различные по характеру и функциям способы гадания играли первостепенную роль в повседневной жизни: с их помощью можно было понять значение происходящего и попытаться заглянуть в будущее» [Вигзелл 2007. — Вигзелл, Фейт. Читая фортуну: гадательные книги в России (вторая половина XVIII‒XX вв.) / Пер. с англ., предисл. и коммент. А.А. Панченко. М.: ОГИ, 2007. С. 72].
Среди «инструментов» гадания у славянских (и некоторых других) народов следует особо выделить волчий вой и собачий лай. По свидетельству А.Н. Афанасьева: «Вой волковъ почитался вѣщимъ и у славянъ, и у нѣмцевъ» [Афанасьев I 1865. С. 765].
Искусство гадания по волчьему вою в древности, вполне вероятно, у славян могло представлять из себя целую «науку», наподобие мантического искусства древнеримских авгуров (ius augur(i)um), предсказывавших по полёту и крикам птиц: «Вой волков предвещает голод (Россия; Малопольша, р-н Тарнобжега и Ниско), пастью вверх — голод, прямо — войну, к земле — мор (совр. Тарновское воев., Мысленице, р-н Радома, Бысин), под жильем — войну или мороз (Россия), осенью — дожди, зимой — метель (Гродненская губ., Волковыский у.). В Витебской губ. по вою волков вблизи жилья на Святки определяют время нападения их на стадо: если воют в ночь под Рождество, то будут нападать весной, если под Новый год — летом, если под Крещение — осенью (Полоцкий у., Махирово)» [Гура 1997. С. 156]. Согласно отречённой книге «Волховник» (сохранились упоминания о ней), славяне также гадали по пенью птиц: «Волховникъ волхвующе птицами и звѣрми, еже есть... воронограи, куроклик...» [Срезневский I 1893. Ст. 303].
В Лаврентьевском списке «Повести временных лет» под 6605 (1097) г. находим свидетельство о том, как половецкий хан Боняк по волчьему вою предсказал победу в грядущей битве: «Давыдъ бо в то чинь пришедъ из Ляховъ, и посади жену свою у Володаря, а сам иде в Половцѣ. И устрѣте ѝ Бонякъ, и воротися Давыдъ, и поидоста на угры. Идущема же има, сташа ночлѣгу, и яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отъѣха от вой, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози. Бонякъ же приѣхавъ повѣда Давыдови, яко „Побѣда ны есть на угры заутра“». — «Ибо Давыд в то время вернулся из Польши и посадил жену свою у Володаря, а сам пошел в Половецкую землю. И встретил его Боняк, и воротился Давыд, и пошли на венгров. Когда же они шли, остановились на ночлег; и когда наступила полночь, встал Боняк, отъехал от воинов и стал выть по-волчьи, и волк ответил воем на вой его, и завыло множество волков. Боняк же, вернувшись, поведал Давыду, что „победа у нас будет над венграми завтра“» [ПВЛ 1999. С. 115, 253 (перевод)].
Впрочем, собачий вой также считали в народе предвестником грядущих событий, чаще всего — несчастливых: «Собаки воютъ ночью — слышатъ волковъ и къ пожару» [Магницкий 1883. С. 12]. «Въ какую сторону воютъ собаки, въ той сторонѣ быть пожару: если передъ домомъ, то въ домѣ. Если собака воетъ передъ окошками, особенно больного, то непремѣнно смерть ему. Вообще вой собакъ считаютъ дурнымъ знакомъ» [Терещенко VI 1848. С. 9]. Ср. также у Г.И. Попова: «Если собака играетъ съ лошадью или разбалуется кошка — это вѣрная примѣта, что больной выздоровѣетъ. Напротивъ, если собака роетъ землю и воетъ, обративши морду на хозяйскую избу или по направленію къ церкви, кошка лежитъ подъ столомъ вверхъ ногами, скотина на дворѣ обнаруживаетъ безпричинное безпокойство — все это вѣрные признаки близкой смерти больного» [Попов 1903. С. 183].
Вообще, народная медицина во все времена была в какой-то мере связана с «магическим» мышлением: «При укушенiи бѣшеной собакой или волкомъ слѣдуетъ приложить къ ранѣ теплое голубиное мясо или, превративъ въ порошокъ высушенную пчелиную матку, одну половину принять внутрь, а другой присыпать укушенное мѣсто» [Попов 1903. С. 275 (гл. «IX. Грубо-эмпирическiя, нелѣпыя и вредныя средства»)]. «Сало собачье в Воронежской губ. пили в молоке при туберкулезе. Собак даже специально откармливали для этого» [Торэн 1996. С. 114]. И т.д.
В языческих верованиях армян известны особые духи, которые в обличии собак зализывали и тем самым исцеляли раны, нанесенные воину в бою: «В древней армянской литературе существует несколько указаний на особые существа, считавшиеся чем-то вроде полубогов или духов, называемые аралезами (в переводе это, предположительно, значит постоянно лижущие, по другому варианту перевода — „лижущие Ара“). Эти аралезы считались покровителями раненых и убитых на полях сражений. По верованиям армян аралезы в ночное время сходили сверху на землю, принимая, по Езнику, образ собаки, опускались к раненым и павшим в битвах, лизали их раны, которые после этого заживали, и тогда раненые исцелялись от своих страданий, а убитые воскресали. Такие указания встречаются у философа Езника, Фауста Бюзанда, Моисея Хоренского и Себеоса» [Оганесян I 1946. С. 52].
В пору Зимних Святок по собачьему лаю девицы в русских деревнях гадали о возможной грядущей свадьбе: «где сабаки залаяли или шум какой — туда и атдадут...» (зап. в 1998 г. в г. Серафимовиче от Терсковой Н.Н., 1910 г.р.) [Рыблова 2016. С. 49]; «Собака залает — в той стороне и судьба» (зап. в Белозерском р-не Вологодской обл., в д. Орлово от Петровой Анисьи Ивановны) [Адоньева 2006. С. 488]. «АБеВеГа русских суеверий» М.Д. Чулкова сообщает, что на Святки девицы гадали о женихах, слушая, каким именно голосом лает собака: «Полютъ снѣгъ, и въ которую сторону броситъ оной, то и слушаетъ тамо, какая прежде собака залаетъ, ежели толстымъ голосомъ, то быть ей за старымъ мужемъ, а когда тонкимъ, то быть за молодымъ» [Чулков 1786. С. 150]. М. Георгиевский, описывая празднование Святок в деревнях Олонецкой губернии, приводил соответствующий обрядовый текст: «Чтобы узнать, въ какой сторонѣ живетъ суженый, для этого дѣвушки полютъ снѣгъ. Придя на перекрестки трехъ дорогъ, дѣвушки садятся на снѣгъ, предварительно растянувъ впередъ себя заднюю часть подола въ платьѣ, куда накладываютъ снѣга. Перебирая снѣгъ и проговоривъ: „полю, полю — бѣлинькiй снѣжокъ! Залай, залай, собачка, на суженой сторонкѣ. Покрылъ Господи земельку снѣжкомъ, а меня — повойничкомъ“; дѣвушки умолкаютъ и слушаютъ. Гдѣ залаетъ собака, тамъ и суженый живетъ» [Георгиевскiй II 1889. С. 515]. И.П. Сахаров, рассказывая о святочных девичьих гаданиях, приводил следующее описание ритуала, сопровождавшегося обрядовыми словами, в которых собака и волк, по сути, оказывались приравнены друг к другу: «Выходятъ къ забору и говорятъ: „Залай, залай, собаченька, залай сѣринькой волчекъ“. Въ которой стороне услышитъ дѣвушка лай, въ той сторонѣ будетъ жить замужемъ. Если лай раздается близъ дома, то это показываетъ, что отдадутъ замужъ не въ дальнюю сторону; если же лай будетъ тихiй, едва слышный, то будетъ выдана замужъ на чужую сторону» [Сахаров I 1841. С. 68 (в разделе: «Преданiя и сказанiя о Русскомъ чернокнижiи»)]. В Белоруссии, по сообщению А.Е. Богдановича, на Коляду девушки «захвативъ краюху хлѣба, выбѣгаютъ на „смалище“ (мѣсто, гдѣ обжигали кабана) и, кушая хлѣбъ, слушаютъ, въ какой сторонѣ раздастся звукъ — говоръ, лай собаки и т.п. — туда ей выйти замужъ» [Богданович 1895. С. 87]. И т.п.
Иногда встречаются и такие вот свидетельства: «Собака, успѣвшая стащить въ домѣ просвиру и съѣсть, какъ только заблаговѣстятъ къ обѣднѣ — начинаетъ выть» [Магницкий 1883. С. 43].
По сообщению французского путешественника XIX в. Ксавье Мармье [Marmier 1840], в Мекленбурге, население которого в значительной степени состояло из онемеченных полабо-балтийских славян-вендов, в народе верили, что собаки воют при приближении колдуна: «Эти колдуны друзья дьявола. <...> Одно их приближение заставляет ржать лошадей и выть собак» [Жих 2016. С. 22].
• «Ад ваўкоў. На моры, на кіяне стаіць дуб, пад тым дубам стаіць карваць разубражана, разукрашана; на той карваці ляжыць прысільны магучы багатыр сівы воўк, дзяржыць дзвенаццаць ключоў залатых i сабіраіць усіх сваіх лютых звярэй: ярых, палуярых, ярцоў i палуярцоў i замыкаіць губы i зубы i раціва сэрца. Я ж цябе, сільны, прысільны, магучы багатыр сівы воўк, умаліваю i ўпрашываю, штобы па маяму стаду ваўкі хадзілі i рота не разявалі, глаз не ўскідывалі i маяго стада (або табуна) не кусалі: ні малых, ні старых, ні ўзрослых, ні няўзрослых. Я ж цябе ўпрашываў i ўмаліваў, сільны, прысільны, магучы багатыр сівы воўк; ежалі я цябе не ўпрашу i не ўмалю, то ўпрашу святога Ягорыя з՚ездзіць к табе. Святы Ягоры з вострым кап՚ём i з вострым мячом, ён тваю карваць разарыць i цябе ў сіне мора выкініць» [Замовы 1992. С. 70‒71 (№ 140)].
Пер.: «От волков. На море, на океане стоит дуб, под тем дубом стоит кровать разубражена, разукрашена; на той кровати лежит крепкий могучий богатырь серый волк, держит двенадцать ключей золотых и собирает всех своих свирепых зверей: ярых, полуярых, ярцов и полуярцов и запирает губы и зубы и ретивое сердце. Я же тебя, сильный, пресильный, могучий богатырь серый волк, умоляю и упрашиваю, чтобы по моему стаду волки ходили и рта не разевали, глаз не вскидывали и моего стада (или табуна) не кусали: ни малых, ни старых, ни взрослых, ни невзрослых. Я же тебя упрашивал и умолял, сильный, пресильный, могучий богатырь серый волк; ежели я тебя не упрошу и не умолю, то упрошу святого Егория съездить к тебе. Святой Егорий с острым копьём и с острым мечом, он твою кровать разорит и тебя в синее море выкинет».
• «Ад хвароб жывёлы. Первым разам, добрым часам. На сінім моры, на чыстым полі стаяў дуб без карэння, без карчэўя, без макушкі i без галля. I на етам дубі сядзеў арол без галавы, без какцей, без пер՚я, без крылля. Як етаму арлу па свету не лятаць, разных пташак не пабіваць, так у етай скаціны, чорнай шарсьціны, чэмеры, патніцы, еляніцы i пералогу не бываць. Як чэраз сіняе мора, чэраз чыстае поле ішоў, плыў воўк, — з рота полымя, з наздзёр іскры, вачамі мігаў i вусамі ківаў, i зубамі сцінаў, — із естыя скаціны, чорнай шарсьціны, разныя чэмеры, патніцы, еляніцы i пералогу ад՚ядаў. Як чэраз сіняе мора, чэраз чыстае поле ішоў Гасподзь i Маць Прачыстая.
— О, Госпадзі i маць Прачыстая, прашу я вас вярнуцца!
— Мы ня вернемся!
— О, Госпадзі, агляніцеся!
— Мы не глянемся — пойдзем у чыстае поле i ў зялёныя лугі разных траў шукаць, із естай скаціны, чорнай шарсьціны, разныя чэмеры, патніцы, еляніцы i пералогу адганяць» [Замовы 1992. С. 96‒97 (№ 239)].
Пер.: «От болезней животного. Первым разом, добрым часом. На синем море, на чистом поле стоит дуб без корней, без корчевья, без макушки и без веток. На дубе сидит орёл без головы, без когтей, без перьев, без крыльев. Как этому орлу по миру не летать, разных пташек не побивать, так и этой скотине, чёрной шерстине, чемерицы, потницы, еленицы и переломов не бывать. Как через синее море, через чистое поле шёл, плыл волк — изо рта пламя, из ноздрей искры, глазами мерцал и усами кивал, и зубами сжимал — из этой скотины, чёрной шерстины, разные чемерицы, потницы, еленицы и перелоги отъедал. Как через синее море, через чистое поле шёл Господь и Матерь Пречистая.
— О, Господи и мать Пречистая, прошу я вас вернуться!
— Мы не вернёмся!
— О, Господи, оглянитесь!
— Мы не оглянемся — пойдём в чистое поле и в зелёные луга разные травы искать, из этой скотины, чёрной шерстины, разные чемерицы, потницы, еленицы и перелоги отгонять».
В этом же сборнике приводятся и другие заговоры от волков, призванные оберегать скот от этого хищного зверя [Замовы 1992. С. 71‒78 (№ 142‒171)].
Е.Р. Романов в 5-м выпуске своего «Белорусского сборника» опубликовал редкий белорусский заговор из разряда «от болезней животных», повествующий о трёх «царях», властвующих над «Нижним» миром (чёрный рак — в море), «Срединным» миром (белый волк — в поле) и «Верхним» миром (весёл Месяц — в небе) соответственно: «Бàсловъ Божа (3 р.)! Ёсь три цари: первый царъ — чорный ракъ у мори, другій царъ — бѣлый вовкъ у поли, третьцій царъ — вясёлъ мѣсяцъ у неби. Якъ етымъ царамъ умѣсто не сходзитца, за столикомъ не сядзѣць, хлѣба — соли не зьѣдаць, такъ ету скоцину чемерамъ не браць.
Три разы, и воду пераксциць. И людзёмъ помогаець отъ живота (м. Микулино, орш. у.)» [Романов V 1891. С. 124 (№ 2 в гл. «Отъ болѣзней животныхъ»)].
• «Ад ваўкоў. На моры, на кіяне стаіць дуб, пад тым дубам стаіць карваць разубражана, разукрашана; на той карваці ляжыць прысільны магучы багатыр сівы воўк, дзяржыць дзвенаццаць ключоў залатых i сабіраіць усіх сваіх лютых звярэй: ярых, палуярых, ярцоў i палуярцоў i замыкаіць губы i зубы i раціва сэрца. Я ж цябе, сільны, прысільны, магучы багатыр сівы воўк, умаліваю i ўпрашываю, штобы па маяму стаду ваўкі хадзілі i рота не разявалі, глаз не ўскідывалі i маяго стада (або табуна) не кусалі: ні малых, ні старых, ні ўзрослых, ні няўзрослых. Я ж цябе ўпрашываў i ўмаліваў, сільны, прысільны, магучы багатыр сівы воўк; ежалі я цябе не ўпрашу i не ўмалю, то ўпрашу святога Ягорыя з՚ездзіць к табе. Святы Ягоры з вострым кап՚ём i з вострым мячом, ён тваю карваць разарыць i цябе ў сіне мора выкініць» [Замовы 1992. С. 70‒71 (№ 140)].
Пер.: «От волков. На море, на океане стоит дуб, под тем дубом стоит кровать разубражена, разукрашена; на той кровати лежит крепкий могучий богатырь серый волк, держит двенадцать ключей золотых и собирает всех своих свирепых зверей: ярых, полуярых, ярцов и полуярцов и запирает губы и зубы и ретивое сердце. Я же тебя, сильный, пресильный, могучий богатырь серый волк, умоляю и упрашиваю, чтобы по моему стаду волки ходили и рта не разевали, глаз не вскидывали и моего стада (или табуна) не кусали: ни малых, ни старых, ни взрослых, ни невзрослых. Я же тебя упрашивал и умолял, сильный, пресильный, могучий богатырь серый волк; ежели я тебя не упрошу и не умолю, то упрошу святого Егория съездить к тебе. Святой Егорий с острым копьём и с острым мечом, он твою кровать разорит и тебя в синее море выкинет».
• «Ад хвароб жывёлы. Первым разам, добрым часам. На сінім моры, на чыстым полі стаяў дуб без карэння, без карчэўя, без макушкі i без галля. I на етам дубі сядзеў арол без галавы, без какцей, без пер՚я, без крылля. Як етаму арлу па свету не лятаць, разных пташак не пабіваць, так у етай скаціны, чорнай шарсьціны, чэмеры, патніцы, еляніцы i пералогу не бываць. Як чэраз сіняе мора, чэраз чыстае поле ішоў, плыў воўк, — з рота полымя, з наздзёр іскры, вачамі мігаў i вусамі ківаў, i зубамі сцінаў, — із естыя скаціны, чорнай шарсьціны, разныя чэмеры, патніцы, еляніцы i пералогу ад՚ядаў. Як чэраз сіняе мора, чэраз чыстае поле ішоў Гасподзь i Маць Прачыстая.
— О, Госпадзі i маць Прачыстая, прашу я вас вярнуцца!
— Мы ня вернемся!
— О, Госпадзі, агляніцеся!
— Мы не глянемся — пойдзем у чыстае поле i ў зялёныя лугі разных траў шукаць, із естай скаціны, чорнай шарсьціны, разныя чэмеры, патніцы, еляніцы i пералогу адганяць» [Замовы 1992. С. 96‒97 (№ 239)].
Пер.: «От болезней животного. Первым разом, добрым часом. На синем море, на чистом поле стоит дуб без корней, без корчевья, без макушки и без веток. На дубе сидит орёл без головы, без когтей, без перьев, без крыльев. Как этому орлу по миру не летать, разных пташек не побивать, так и этой скотине, чёрной шерстине, чемерицы, потницы, еленицы и переломов не бывать. Как через синее море, через чистое поле шёл, плыл волк — изо рта пламя, из ноздрей искры, глазами мерцал и усами кивал, и зубами сжимал — из этой скотины, чёрной шерстины, разные чемерицы, потницы, еленицы и перелоги отъедал. Как через синее море, через чистое поле шёл Господь и Матерь Пречистая.
— О, Господи и мать Пречистая, прошу я вас вернуться!
— Мы не вернёмся!
— О, Господи, оглянитесь!
— Мы не оглянемся — пойдём в чистое поле и в зелёные луга разные травы искать, из этой скотины, чёрной шерстины, разные чемерицы, потницы, еленицы и перелоги отгонять».
В этом же сборнике приводятся и другие заговоры от волков, призванные оберегать скот от этого хищного зверя [Замовы 1992. С. 71‒78 (№ 142‒171)].
Е.Р. Романов в 5-м выпуске своего «Белорусского сборника» опубликовал редкий белорусский заговор из разряда «от болезней животных», повествующий о трёх «царях», властвующих над «Нижним» миром (чёрный рак — в море), «Срединным» миром (белый волк — в поле) и «Верхним» миром (весёл Месяц — в небе) соответственно: «Бàсловъ Божа (3 р.)! Ёсь три цари: первый царъ — чорный ракъ у мори, другій царъ — бѣлый вовкъ у поли, третьцій царъ — вясёлъ мѣсяцъ у неби. Якъ етымъ царамъ умѣсто не сходзитца, за столикомъ не сядзѣць, хлѣба — соли не зьѣдаць, такъ ету скоцину чемерамъ не браць.
Три разы, и воду пераксциць. И людзёмъ помогаець отъ живота (м. Микулино, орш. у.)» [Романов V 1891. С. 124 (№ 2 в гл. «Отъ болѣзней животныхъ»)].
Иногда в лечебных заговорах волк также фигурирует вместе с медведем или медведицей, например: «Я не девка, я не баба, я медведица, у меня зубы востры, как у волка, я загрызаю грыжу у младенца Николая. Чтобы заговор имел силу, должны быть все зубы: нет зубов — ничего не получится» [РЗЗ 1998. С. 101 (№ 480)]. Иногда грыжа может «заедаться» в заговоре не только волчьими, но и «собачьими зубами» [РЗЗ 1998. С. 101 (№ 479)].
Известны заговоры от грыжи, в которых описывается сидящий под ракитовым кустом серый кот, например, такой: «В чистом поле стоит ракитовый куст. В этом кусту сидит серый кот. Я попрошу его: „Серый, выгрызи у раба Божия Анны вся двенадцать грыж человеческих...“» [РЗЗ 1998. С. 99 (№ 466); ср. также: МПСД I 2020. С. 77‒78 (№ 36): «на синем камне... черный кот, зубы железны, глаза оловянны» и т.д.]. Вспомним, что в русском фольклоре — от сказок до детских колыбельных — под ракитовым кустом обычно пребывает не кот (хотя он тоже встречается), а волк или известный многим из нас с детства «серенький волчок»: «Придет серенький волчок, / Тебя схватит за бочок / И утащит во лесок / Под ракитовый кусток» (колыбельная) [ДПФ 1997. С. 77 (№ 186); ср. также № 185, где фигурирует «серенький коток»].
Иногда грыжи выгрызает не волк, а пёс/кобель из свиты Михаила Архангела, по описанию, данному в заговоре, подозрительно напоминающего славянского Перуна: «Выйду в дальное чистое поле, во встречу едет святой Михаил Архангел — грозный воевода небесных сил; он едет на добром коне, везет на руки ясного сокола, позади ведет доброго кобеля. Помолюсь, поклонюсь, покорюсь <...>: „Святой Михаил Архангел, спусти доброго кобеля на всю сотворенную землю вынять все двадцать девять грыж: мокру, потовую, ломовую, жильну, телесну, сердецьню, напущену (пупову), солодну, ветрену, крайну, белу, синю, черну, портежну, станову, составну, костяну, зелену, желту, водяну, — все двадцать девять грыж, чтобы твой кобель зубами выкусал, когтями вырвал, хвостом запахал и разносил в море, в быстрыя реки по тихим заводям, чтобы те злые-лихие грыжи у раба Божия (имярек) во веки побегли“» (зап. И.М. Дуров, с рукоп., 1924 г., Сумский Посад) [РЗК 2000. С. 70 (№ 173)].
Заметим, к слову, что «термин грыжа, за которым в современной медицине стоит вполне определённое заболевание, в народной традиции означает болезнь любого внутреннего органа. Все они объединяются в одно на том основании, что человек испытывает сильную боль, напоминающую укус (болезнь грызёт человека). В зависимости от места боли выделяется до сорока разновидностей грыжи: пуповая, паховая, подпятная, подноготная, головная и т.п.» [Мороз 2013. С. 103].
При этом волки могут не только схватить ребёнка в ночи «за бочок», но и оберегать его сон: «Когда плохо спит ребенок, на дороге насобирают камешки или угли, которые остаются, на воду нашептывают и в воду их бросают и говорят: „Волчья пасть, оленья шерсть, волки идите, отведите от рабы Божьей Татьяны все призоры, оговоры, думу свою, отцову и метерину, с людей пришло, на людей поди, с ветра пришло, на ветер поди, с воды пришло, на волу поди. Аминь“ (Зап. от женщины, 1894 г.р., в д. Красково Хотеновского с/с Каргопольского р-на Архангельской обл. 10.07.1979 г. А. Калининой, И. Шторевой)» [МПСД I 2020. С. 77 (№ 35)].
Однако вернёмся к теме пастушеских заговоров.
Иногда в лечебных заговорах волк также фигурирует вместе с медведем или медведицей, например: «Я не девка, я не баба, я медведица, у меня зубы востры, как у волка, я загрызаю грыжу у младенца Николая. Чтобы заговор имел силу, должны быть все зубы: нет зубов — ничего не получится» [РЗЗ 1998. С. 101 (№ 480)]. Иногда грыжа может «заедаться» в заговоре не только волчьими, но и «собачьими зубами» [РЗЗ 1998. С. 101 (№ 479)].
Известны заговоры от грыжи, в которых описывается сидящий под ракитовым кустом серый кот, например, такой: «В чистом поле стоит ракитовый куст. В этом кусту сидит серый кот. Я попрошу его: „Серый, выгрызи у раба Божия Анны вся двенадцать грыж человеческих...“» [РЗЗ 1998. С. 99 (№ 466); ср. также: МПСД I 2020. С. 77‒78 (№ 36): «на синем камне... черный кот, зубы железны, глаза оловянны» и т.д.]. Вспомним, что в русском фольклоре — от сказок до детских колыбельных — под ракитовым кустом обычно пребывает не кот (хотя он тоже встречается), а волк или известный многим из нас с детства «серенький волчок»: «Придет серенький волчок, / Тебя схватит за бочок / И утащит во лесок / Под ракитовый кусток» (колыбельная) [ДПФ 1997. С. 77 (№ 186); ср. также № 185, где фигурирует «серенький коток»].
Иногда грыжи выгрызает не волк, а пёс/кобель из свиты Михаила Архангела, по описанию, данному в заговоре, подозрительно напоминающего славянского Перуна: «Выйду в дальное чистое поле, во встречу едет святой Михаил Архангел — грозный воевода небесных сил; он едет на добром коне, везет на руки ясного сокола, позади ведет доброго кобеля. Помолюсь, поклонюсь, покорюсь <...>: „Святой Михаил Архангел, спусти доброго кобеля на всю сотворенную землю вынять все двадцать девять грыж: мокру, потовую, ломовую, жильну, телесну, сердецьню, напущену (пупову), солодну, ветрену, крайну, белу, синю, черну, портежну, станову, составну, костяну, зелену, желту, водяну, — все двадцать девять грыж, чтобы твой кобель зубами выкусал, когтями вырвал, хвостом запахал и разносил в море, в быстрыя реки по тихим заводям, чтобы те злые-лихие грыжи у раба Божия (имярек) во веки побегли“» (зап. И.М. Дуров, с рукоп., 1924 г., Сумский Посад) [РЗК 2000. С. 70 (№ 173)].
Заметим, к слову, что «термин грыжа, за которым в современной медицине стоит вполне определённое заболевание, в народной традиции означает болезнь любого внутреннего органа. Все они объединяются в одно на том основании, что человек испытывает сильную боль, напоминающую укус (болезнь грызёт человека). В зависимости от места боли выделяется до сорока разновидностей грыжи: пуповая, паховая, подпятная, подноготная, головная и т.п.» [Мороз 2013. С. 103].
При этом волки могут не только схватить ребёнка в ночи «за бочок», но и оберегать его сон: «Когда плохо спит ребенок, на дороге насобирают камешки или угли, которые остаются, на воду нашептывают и в воду их бросают и говорят: „Волчья пасть, оленья шерсть, волки идите, отведите от рабы Божьей Татьяны все призоры, оговоры, думу свою, отцову и метерину, с людей пришло, на людей поди, с ветра пришло, на ветер поди, с воды пришло, на волу поди. Аминь“ (Зап. от женщины, 1894 г.р., в д. Красково Хотеновского с/с Каргопольского р-на Архангельской обл. 10.07.1979 г. А. Калининой, И. Шторевой)» [МПСД I 2020. С. 77 (№ 35)].
Однако вернёмся к теме пастушеских заговоров.
«Молитва скоту. Подъ этимъ страннымъ и смѣшнымъ заглавiемъ распространена между пастухами скота рукопись, въ невидимую и чудесную силу которой вѣрятъ не только они сами, но и почти всѣ владельцы скота, вручающiе оный надзору пастуха, во время выгона на подножный кормъ своихъ животныхъ. Трудно разувѣрить нашего простолюдина, что это нелѣпость, вымыселъ какого-либо грамотѣя — пройдохи [учитывая огромное количество письменно зафиксированных вариантов пастушеского „отпуска“, или „обхода“, известное современным этнографам, а также широкую географию бытования такого рода текстов, свести всё к „вымыслу какого-либо грамотея-пройдохи“ в наше время может, пожалуй, только не вполне грамотный исследователь, — прим. В.]. Подобного рода молитву иначе въ народѣ называютъ „отпускъ“. Пастухи покупаютъ ее отъ 1 руб. до 5 и потомъ хранятъ при себѣ, какъ священную вещь, прикосновенiе къ которой другаго лица считается у них нечистью, влекущею за собою несчастiя отъ звѣрей и проч. За то и сами пастухи сберегаютъ подобную рукопись со всею тщательностью: они прячутъ ее или въ свою свирѣль (трубу), какъ главный атрибутъ своей службы, или пришиваютъ съ внутренней стороны собственной жилетки или фуражки, аккуратно обматывая тряпками; а нѣкоторые сохраняютъ даже въ чащѣ лѣса, вмѣстѣ съ шерстью, отстриженною отъ каждой коровы, или лошади пасомаго стада. Имѣющiе такую молитву, смѣло выгоняютъ скотъ на пастбища и уходятъ отъ селенiй верстъ на 8 и далѣе въ лѣса, въ увѣренности, что никакого несчастья не можетъ съ ними приключиться, хотя иногда и горько ошибаются въ своей надеждѣ. Однако, и при несчастiяхъ, не оставляютъ вѣры въ свой рукописный талисманъ, утѣшая себя тѣмъ, что такъ Богу угодно. „Божья воля; видно, за грѣхи мои Господь указалъ звѣрю на мою животину“, — говоритъ въ простотѣ сердца, нашъ простолюдинъ, не сознавая того, что виною несчастья есть безпечность пастуховъ къ своему дѣлу, происходящая отъ вѣры въ волшебную силу молитвы, на которую полагаясь, пастухи оставляютъ стада скота на произволъ судьбы, а сами проводятъ цѣлый день, вдали отъ стада, въ селенiяхъ, или, избравъ удобное мѣсто подъ тѣнью дерева, беззаботно предаются сладкому сну. Вотъ подлинный текстъ этой, не лишенной интереса, рукописи:
Молитва скоту (чтобы нагляднѣе видѣть безграмотность этой мнимой молитвы, я не рѣшился ее исправить, а сообщаю изъ буквы въ букву).
„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ Божiй, благословясь, пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ воротъ воротами, помолюся Спасу и Пречистой Богородицы и грозному воеводѣ Михайлы архангелу, Николы чудотворцу Мирликiйскому, верховнымъ апостоламъ Петру и Павлу, Андрею первозванному, Ильи пророку, чудотворцу святому Власiю и святому Медосiю патрiарху и всѣмъ ангеламъ хранителямъ и всей небесной силы. Благослови меня, Господи, Спасъ Милостивый, и Пречистая Богородица, рабу Божiю (имя рекъ) къ себѣ на руки принять милой весь крестьянской животъ и огради, Господи, около стада моего, и около поскотины моей, и около всей животины, постави, Господи, стѣну бѣлокаменную и огради кругомъ всей моей животины, и кругъ всей моей поскотины, и кругъ стада моего, и обнеси, Господи, три тына мѣдной, желѣзной и булатной, и сверху постави, Господи, шатеръ седми небесъ, чтобы ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), и къ моему стаду и поскотины моей нельзя пройти и проѣхать хитрому человѣку и всякому злодѣйственному человѣку, никакому звѣрю, ни волку рыскучему, ни волчицы, ни медвѣдю широколапому, ни медвѣдицы, ни всякой змiи скорпiи, ни всякому человѣку злодѣйственному, ни перехожему пакостнику, ни обворотню, ни лягухи, ни всякой летучей мухи, ни пройти, ни подойти ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), ни къ моей животины, милому крестьянскому животу, ни къ конямъ, ни къ коровамъ, ни ко всей животины, никому ни истратить, ни изурочить, ни съѣсть всякому зверю, ни волку рыскучему и волчицы и медвѣдю широколапому и медвѣдицы, ни всякой змiи и скорпiи, ни всякому злодѣйственному человѣку, ни обворотню, ни перехожему пакостнику, ни всякой летучей мухи и гадины отъ нынѣ и до вѣку во вѣки вѣковъ. Аминь. А буде меня, раба Божiя (имя рекъ), кто станетъ портить и урочить всякой звѣрь, волкъ рыскучей и волчица, широколапой медвѣдь и медвѣдица и ни змѣй скорпiй и всякой ехидной человѣкъ, злодѣйственной перехожей пакостникъ и обворотень, звѣремъ подходя или гадиной ползущей станетъ, и всю мою животину, милой крестьянской животъ станетъ кто портить, и Михайла архангелъ со всею небесною силою сойдетъ и разошлетъ на всѣ 4 стороны, велитъ тѣхъ перехожихъ пакостниковъ и обворотневъ, и всякаго звѣря и всякаго [волка(?), — прим. В.] рыкучево, и волчицу, и широколапаго медвѣдя, и медвѣдицу, и всякую змiю скорпiю, лягуху и всякую гадину, мухи и другiе, бить ангеламъ, архангеламъ 3-мя тысячъ прутьями желѣзными до скончанiя жизни и безъ выпуску. И вамъ всѣмъ будетъ плачъ и рыданiе, а мнѣ рабу Божiю (имя рекъ), съ крестьянскимъ животомъ всѣмъ нынѣ и до вѣку и во вѣки, аминь.
Еще я, рабъ Божiй (имя рекъ), помолюся Пречистыя Богородицы: помогай и пособляй и со всѣми ангелами, архангелами отъ обворотня, и отъ сопротивниковъ моихъ, и отъ всякихъ перехожихъ пакостниковъ, и отъ всякаго звѣря, и отъ двоезуба, троезуба и рѣдкозуба, и всякаго злаго ехиднаго человѣка, остерегай, Пресвятая Богородица, Мати Божiя съ крестителемъ Iоанномъ Предтечей, со всѣми небесными силами на злыхъ сихъ сопротивниковъ и всякихъ перехожихъ пакостниковъ, на всѣхъ тварей видимыхъ и невидимыхъ, звѣрей моихъ и врагъ моихъ, за молитвъ святыхъ праведныхъ Богоотецъ Iоакима и Анны и всѣхъ святыхъ отъ нынѣ и до вѣку, во вѣки. Аминь.
Я, рабъ Божiй (имя рекъ), стану, благословясь, и пойду, помолясь, и вострублю, благословясь, и въ трубу свою вѣлегласную; и гдѣ въ трубу трублю и въ рогъ играющи заслышитъ вся моя пастушная милая крестьянская животина во дворѣ, или изъ полей, или за полями, въ лугахъ, или въ темныхъ лѣсахъ гуляючи, дабы вся моя животина, крестьянской животъ, сходился и сбегался изъ домовъ, изъ полей и изъ запольевъ, изъ зеленыхъ луговъ и изъ темныхъ лѣсовъ, на приведенное, на урочное мѣсто, во единъ кругъ, въ мою поскотину, ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), на мой гласъ въ трубу трубящую, въ рогъ играющи отъ нынѣ и до вѣка и во вѣки. Аминь.
Еще я, рабъ Божiй (имя рекъ), помолюся св. Власiю и св. Медосiю, патрiархамъ Iерусалимскимъ, и обойдите кругъ меня, раба Божiя (имя рекъ), государи Власiй и свѣтъ Медостъ патрiархъ, кругъ всей поскотины моей и кругъ стада моего, поставьте сей небесный шатеръ на облакахъ, какъ 7 небесъ утверждены отъ самого Господа нашего Iисуса Христа, поверх всей поскотины и всего моего стада, милаго крестьянскаго живота, чтобы нельзя ни звѣрю и волку рыскучему и волчицы, и обворотню, ни перехожему пакостнику, ни медвѣдю широколапому, ни медвѣдицы, ни змiи скорпiи, ни лягухи, ни всякой гадины, ни поползухи, ни другiе гадины летаючи сверхъ по плоти, ни пролетѣть ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), и къ моей поскотины и стаду моему, милому крестьянскому животу. И какъ святая Фаворская гора свѣтомъ покрывается, и такъ меня, раба Божiя (имя рекъ), покрой, Господи, Пресвятая Богородица, св. Власiй и Медостъ патрiархъ, въ нощахъ меня, раба Божiя (имя рекъ), и всю мою поскотину и весь милой скотъ, крестьянской животъ, седьми небеснымъ шатромъ и всей вселенной светомъ, чтобы цѣла и сохранена была и вся моя животина, пасучи, какъ Господь Богъ судитъ на своемъ престолѣ на небеси; и предстоятъ предъ тѣмъ престоломъ Господнимъ силы небесныя, херувимы и серафимы, со страхомъ и трепетомъ, и со грозными и со всѣми шестокрылатыми серафимы и херувимы пламенно-огненными, и не могутъ человѣцы ни зрѣти, ни глядѣти на престолъ твой, Господень, такожде и на меня, раба Божiя (имя рекъ), и весь мой милой животъ и всякую пасучи животину никому ни истратить, ни изурочить и до гробныя доски, во вѣки вѣковъ. Аминь.
Еще я, рабъ Божiй (имя рекъ), помолюся: пошли, Господи, ко мнѣ на помощь Андрея первозваннаго, апостола Луку, евангелиста Христова Матвея, апостола Тимона, Пармена, Прохора, Никанора, Iоанна богослова сына Громова, Илью Пророка [выделение наше, — прим. В.], Георгiя храбраго чудотворца; и всѣмъ: сойдите ко мнѣ, святыи, на землю и обнесите бѣлокаменную ограду около всей моей животины и около стада моего и скотины моей, милаго любимаго крестьянскаго живота, и всякую животину живущую, домошерсную скотину, и весь скотъ мой пасучись, и обнесите ограду бѣлокаменную отъ земли до небеси, чтобы не могъ къ тому моему животу крестьянскому никто подойти, ни всякой звѣрь, ни всякой злой лихой человѣкъ, ни обворотень, ни перехожей пакостникъ, ни троеволосъ, ни двоеволосъ, ни двуезубъ, ни троезубъ, ни встрѣшней, ни пострѣшней, отъ зауголья смотрячи и отъ пристулья смотрячи, ни мужику, ни женки, ни старику, ни старухи, ни младому отроку, ни дѣвицы за ту мою бѣлокаменну стѣну, отъ небеси до земли и со всѣхъ 4-хъ сторонъ обнесена, ни взойти и меня, раба Божiя (имя рекъ), не истратить, ни скота моего, всякую домошерсную скотину не испортить и не пройтить и не пролетѣть и не пролезти злодѣйственному человѣку сквозь бѣлокаменную ограду, и ничего не должно рабамъ Божiимъ (имена рекъ), ни учинить, ни сдѣлать, надъ скотинкою моей и ихней во вѣки. За молитвами святыхъ, сохранена и помилована будетъ во вѣки вѣковъ. Аминь.
Еще я, рабъ Божiй, помолюся Петру и Павлу верховнымъ апостоламъ Христовымъ: государи Петръ и Павелъ, вы помогайте и пособляйте мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), своими святыми молитвами, пасти скотъ милой и любимой крестьянской животъ, и обнесите, государи мои, кругъ стада моего и всей поскотины моей 3 тына, желѣзный, мѣдный и булатной, и со всѣхъ 4 сторонъ, чтобы мой тотъ милой крестьянской животъ никому не истратить, не изурочить, за помощiю Вышняго Госпoда и Влыдычицы Пресвятыя Богородицы и святыхъ вселенскихъ учителей Василiя великаго, Iоанна златоустаго, Григорiя богослова и всѣхъ святыхъ твоихъ. Господи, благопрiятну сотвори нашу молитву; Господи, помилуй, яко благъ человѣколюбецъ, отъ нынѣ до вѣку меня, раба Божiя (имя рекъ), не истратить моей поскотины и животины, милой крестьянской животъ любимой, за помощiю всѣхъ святыхъ отъ нынѣ до вѣку, во вѣки, вѣковъ. Аминь. А кто станетъ портить и урочить меня, раба Божiя (имя рекъ), всю мою любимую животину и всякую животину шерстiю доморощеную, или звѣрь напущать, или звѣремъ оборачивается, волкомъ рыскучимъ и волчицею, и широколапымъ медвѣдемъ или медвѣдицею, и всякою змiею и скорпiею, и обворотнемъ перехожимъ пакостникомъ, и поползухою и всякою гадиною, тому бы человѣку очи вонъ выворотило, языкъ-бы вонъ вырвало и всякое подколѣнное жилье рвалось-бы днемъ и нощiю, на утренней зари и на вечерней, безугомонно вѣкъ во вѣку; и такому-бо человѣку, непрiятелю моему, не пособить никому, ни отцу, ни матери, ни роду, ни племени, ни колдуну, ни колдуньи, ни вѣдуну, ни вѣдуньи, ни чернецу, ни черницы, ни бѣщу, ни бѣшцы, ни троезубу, ни двоезубу, ни рѣткозубу, ни троеволосу, ни кривоволосу, ни всякому злодѣйственному человѣку, вѣкъ во вѣку до гробной доски, опречь меня, раба Божiя (имя рекъ), отъ нынѣ во вѣки вѣковъ. Аминь“.
Взять воды съ 3 ключей и говорить, идучи до 3 ключа: „во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Как я, рабъ Божiй (имя рекъ), совокупилъ съ 3 ключей воду сiю во единъ сосудъ и какъ сiя ключевая вода слилась и стекалась въ сосудѣ, такъ бы сливался и стекался нашъ скотъ, милой любимой крестьянской животъ, вся моя пастушняя животина, черныя наши коровы, красные, и бурые, и пестрые, косматые быки, нетѣли и малыя телята изъ домовъ, изъ полей и заполья, изъ зеленыхъ луговъ, изъ темныхъ лѣсовъ, во единъ кругъ, въ мою поскотину, ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), на мой гласъ въ трубу трубящую и въ рогъ играющи; и какъ сiя ключевая вода течетъ не мѣшается изъ сихъ трехъ ключей въ синее море, окiянъ, такъ-бы нашъ скотъ, милой и любимой крестьянской животъ стекался и сбѣгался въ домы свои, въ день и нощь, во всякой часъ, на концѣ и въ ущербѣ, и на исходѣ и на новкѣ, и въ 24 часа и въ единъ часъ, и въ четверть часа, отъ нынѣ и до вѣка и во вѣки вѣковъ. Аминь, аминь, аминь“.
Чтенiе, изложенной молитвы, обыкновенно, бывает въ первый день выгона скота на пастьбище и сопровождается разными причудами со стороны пастуха. По большей части, пастухъ бываетъ не грамотный; тогда приглашается имъ грамотѣй, который три раза читаетъ молитву, обходя стадо, вмѣстѣ съ пастухомъ, считающимъ непремѣннымъ долгомъ покропить водою, взятою изъ 3 ключей, каждаго животнаго ввѣреннаго ему стада. По прочтенiи молитвы и окропленiи стада, пастухъ принимаетъ остатки воды и рукопись отъ чтеца и въ свою очередь тоже кропитъ его водою, боясь, чтобы онъ чего-либо не похитилъ изъ молитвы, удаляется въ лѣсъ и тамъ прячетъ принадлежащую ему молитву, гдѣ вздумается; остатки же воды или выпиваетъ, или же изливаетъ на землю подъ камень».
В заключение статьи следует подпись автора: «Учитель В. Ребров. / Село Девятины. / Вытегорскаго уѣзда. / 12 февраля 1879 года» [Ребров 1886. С. 49‒54].
«Молитва скоту. Подъ этимъ страннымъ и смѣшнымъ заглавiемъ распространена между пастухами скота рукопись, въ невидимую и чудесную силу которой вѣрятъ не только они сами, но и почти всѣ владельцы скота, вручающiе оный надзору пастуха, во время выгона на подножный кормъ своихъ животныхъ. Трудно разувѣрить нашего простолюдина, что это нелѣпость, вымыселъ какого-либо грамотѣя — пройдохи [учитывая огромное количество письменно зафиксированных вариантов пастушеского „отпуска“, или „обхода“, известное современным этнографам, а также широкую географию бытования такого рода текстов, свести всё к „вымыслу какого-либо грамотея-пройдохи“ в наше время может, пожалуй, только не вполне грамотный исследователь, — прим. В.]. Подобного рода молитву иначе въ народѣ называютъ „отпускъ“. Пастухи покупаютъ ее отъ 1 руб. до 5 и потомъ хранятъ при себѣ, какъ священную вещь, прикосновенiе къ которой другаго лица считается у них нечистью, влекущею за собою несчастiя отъ звѣрей и проч. За то и сами пастухи сберегаютъ подобную рукопись со всею тщательностью: они прячутъ ее или въ свою свирѣль (трубу), какъ главный атрибутъ своей службы, или пришиваютъ съ внутренней стороны собственной жилетки или фуражки, аккуратно обматывая тряпками; а нѣкоторые сохраняютъ даже въ чащѣ лѣса, вмѣстѣ съ шерстью, отстриженною отъ каждой коровы, или лошади пасомаго стада. Имѣющiе такую молитву, смѣло выгоняютъ скотъ на пастбища и уходятъ отъ селенiй верстъ на 8 и далѣе въ лѣса, въ увѣренности, что никакого несчастья не можетъ съ ними приключиться, хотя иногда и горько ошибаются въ своей надеждѣ. Однако, и при несчастiяхъ, не оставляютъ вѣры въ свой рукописный талисманъ, утѣшая себя тѣмъ, что такъ Богу угодно. „Божья воля; видно, за грѣхи мои Господь указалъ звѣрю на мою животину“, — говоритъ въ простотѣ сердца, нашъ простолюдинъ, не сознавая того, что виною несчастья есть безпечность пастуховъ къ своему дѣлу, происходящая отъ вѣры въ волшебную силу молитвы, на которую полагаясь, пастухи оставляютъ стада скота на произволъ судьбы, а сами проводятъ цѣлый день, вдали отъ стада, въ селенiяхъ, или, избравъ удобное мѣсто подъ тѣнью дерева, беззаботно предаются сладкому сну. Вотъ подлинный текстъ этой, не лишенной интереса, рукописи:
Молитва скоту (чтобы нагляднѣе видѣть безграмотность этой мнимой молитвы, я не рѣшился ее исправить, а сообщаю изъ буквы въ букву).
„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Стану я, рабъ Божiй, благословясь, пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ воротъ воротами, помолюся Спасу и Пречистой Богородицы и грозному воеводѣ Михайлы архангелу, Николы чудотворцу Мирликiйскому, верховнымъ апостоламъ Петру и Павлу, Андрею первозванному, Ильи пророку, чудотворцу святому Власiю и святому Медосiю патрiарху и всѣмъ ангеламъ хранителямъ и всей небесной силы. Благослови меня, Господи, Спасъ Милостивый, и Пречистая Богородица, рабу Божiю (имя рекъ) къ себѣ на руки принять милой весь крестьянской животъ и огради, Господи, около стада моего, и около поскотины моей, и около всей животины, постави, Господи, стѣну бѣлокаменную и огради кругомъ всей моей животины, и кругъ всей моей поскотины, и кругъ стада моего, и обнеси, Господи, три тына мѣдной, желѣзной и булатной, и сверху постави, Господи, шатеръ седми небесъ, чтобы ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), и къ моему стаду и поскотины моей нельзя пройти и проѣхать хитрому человѣку и всякому злодѣйственному человѣку, никакому звѣрю, ни волку рыскучему, ни волчицы, ни медвѣдю широколапому, ни медвѣдицы, ни всякой змiи скорпiи, ни всякому человѣку злодѣйственному, ни перехожему пакостнику, ни обворотню, ни лягухи, ни всякой летучей мухи, ни пройти, ни подойти ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), ни къ моей животины, милому крестьянскому животу, ни къ конямъ, ни къ коровамъ, ни ко всей животины, никому ни истратить, ни изурочить, ни съѣсть всякому зверю, ни волку рыскучему и волчицы и медвѣдю широколапому и медвѣдицы, ни всякой змiи и скорпiи, ни всякому злодѣйственному человѣку, ни обворотню, ни перехожему пакостнику, ни всякой летучей мухи и гадины отъ нынѣ и до вѣку во вѣки вѣковъ. Аминь. А буде меня, раба Божiя (имя рекъ), кто станетъ портить и урочить всякой звѣрь, волкъ рыскучей и волчица, широколапой медвѣдь и медвѣдица и ни змѣй скорпiй и всякой ехидной человѣкъ, злодѣйственной перехожей пакостникъ и обворотень, звѣремъ подходя или гадиной ползущей станетъ, и всю мою животину, милой крестьянской животъ станетъ кто портить, и Михайла архангелъ со всею небесною силою сойдетъ и разошлетъ на всѣ 4 стороны, велитъ тѣхъ перехожихъ пакостниковъ и обворотневъ, и всякаго звѣря и всякаго [волка(?), — прим. В.] рыкучево, и волчицу, и широколапаго медвѣдя, и медвѣдицу, и всякую змiю скорпiю, лягуху и всякую гадину, мухи и другiе, бить ангеламъ, архангеламъ 3-мя тысячъ прутьями желѣзными до скончанiя жизни и безъ выпуску. И вамъ всѣмъ будетъ плачъ и рыданiе, а мнѣ рабу Божiю (имя рекъ), съ крестьянскимъ животомъ всѣмъ нынѣ и до вѣку и во вѣки, аминь.
Еще я, рабъ Божiй (имя рекъ), помолюся Пречистыя Богородицы: помогай и пособляй и со всѣми ангелами, архангелами отъ обворотня, и отъ сопротивниковъ моихъ, и отъ всякихъ перехожихъ пакостниковъ, и отъ всякаго звѣря, и отъ двоезуба, троезуба и рѣдкозуба, и всякаго злаго ехиднаго человѣка, остерегай, Пресвятая Богородица, Мати Божiя съ крестителемъ Iоанномъ Предтечей, со всѣми небесными силами на злыхъ сихъ сопротивниковъ и всякихъ перехожихъ пакостниковъ, на всѣхъ тварей видимыхъ и невидимыхъ, звѣрей моихъ и врагъ моихъ, за молитвъ святыхъ праведныхъ Богоотецъ Iоакима и Анны и всѣхъ святыхъ отъ нынѣ и до вѣку, во вѣки. Аминь.
Я, рабъ Божiй (имя рекъ), стану, благословясь, и пойду, помолясь, и вострублю, благословясь, и въ трубу свою вѣлегласную; и гдѣ въ трубу трублю и въ рогъ играющи заслышитъ вся моя пастушная милая крестьянская животина во дворѣ, или изъ полей, или за полями, въ лугахъ, или въ темныхъ лѣсахъ гуляючи, дабы вся моя животина, крестьянской животъ, сходился и сбегался изъ домовъ, изъ полей и изъ запольевъ, изъ зеленыхъ луговъ и изъ темныхъ лѣсовъ, на приведенное, на урочное мѣсто, во единъ кругъ, въ мою поскотину, ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), на мой гласъ въ трубу трубящую, въ рогъ играющи отъ нынѣ и до вѣка и во вѣки. Аминь.
Еще я, рабъ Божiй (имя рекъ), помолюся св. Власiю и св. Медосiю, патрiархамъ Iерусалимскимъ, и обойдите кругъ меня, раба Божiя (имя рекъ), государи Власiй и свѣтъ Медостъ патрiархъ, кругъ всей поскотины моей и кругъ стада моего, поставьте сей небесный шатеръ на облакахъ, какъ 7 небесъ утверждены отъ самого Господа нашего Iисуса Христа, поверх всей поскотины и всего моего стада, милаго крестьянскаго живота, чтобы нельзя ни звѣрю и волку рыскучему и волчицы, и обворотню, ни перехожему пакостнику, ни медвѣдю широколапому, ни медвѣдицы, ни змiи скорпiи, ни лягухи, ни всякой гадины, ни поползухи, ни другiе гадины летаючи сверхъ по плоти, ни пролетѣть ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), и къ моей поскотины и стаду моему, милому крестьянскому животу. И какъ святая Фаворская гора свѣтомъ покрывается, и такъ меня, раба Божiя (имя рекъ), покрой, Господи, Пресвятая Богородица, св. Власiй и Медостъ патрiархъ, въ нощахъ меня, раба Божiя (имя рекъ), и всю мою поскотину и весь милой скотъ, крестьянской животъ, седьми небеснымъ шатромъ и всей вселенной светомъ, чтобы цѣла и сохранена была и вся моя животина, пасучи, какъ Господь Богъ судитъ на своемъ престолѣ на небеси; и предстоятъ предъ тѣмъ престоломъ Господнимъ силы небесныя, херувимы и серафимы, со страхомъ и трепетомъ, и со грозными и со всѣми шестокрылатыми серафимы и херувимы пламенно-огненными, и не могутъ человѣцы ни зрѣти, ни глядѣти на престолъ твой, Господень, такожде и на меня, раба Божiя (имя рекъ), и весь мой милой животъ и всякую пасучи животину никому ни истратить, ни изурочить и до гробныя доски, во вѣки вѣковъ. Аминь.
Еще я, рабъ Божiй (имя рекъ), помолюся: пошли, Господи, ко мнѣ на помощь Андрея первозваннаго, апостола Луку, евангелиста Христова Матвея, апостола Тимона, Пармена, Прохора, Никанора, Iоанна богослова сына Громова, Илью Пророка [выделение наше, — прим. В.], Георгiя храбраго чудотворца; и всѣмъ: сойдите ко мнѣ, святыи, на землю и обнесите бѣлокаменную ограду около всей моей животины и около стада моего и скотины моей, милаго любимаго крестьянскаго живота, и всякую животину живущую, домошерсную скотину, и весь скотъ мой пасучись, и обнесите ограду бѣлокаменную отъ земли до небеси, чтобы не могъ къ тому моему животу крестьянскому никто подойти, ни всякой звѣрь, ни всякой злой лихой человѣкъ, ни обворотень, ни перехожей пакостникъ, ни троеволосъ, ни двоеволосъ, ни двуезубъ, ни троезубъ, ни встрѣшней, ни пострѣшней, отъ зауголья смотрячи и отъ пристулья смотрячи, ни мужику, ни женки, ни старику, ни старухи, ни младому отроку, ни дѣвицы за ту мою бѣлокаменну стѣну, отъ небеси до земли и со всѣхъ 4-хъ сторонъ обнесена, ни взойти и меня, раба Божiя (имя рекъ), не истратить, ни скота моего, всякую домошерсную скотину не испортить и не пройтить и не пролетѣть и не пролезти злодѣйственному человѣку сквозь бѣлокаменную ограду, и ничего не должно рабамъ Божiимъ (имена рекъ), ни учинить, ни сдѣлать, надъ скотинкою моей и ихней во вѣки. За молитвами святыхъ, сохранена и помилована будетъ во вѣки вѣковъ. Аминь.
Еще я, рабъ Божiй, помолюся Петру и Павлу верховнымъ апостоламъ Христовымъ: государи Петръ и Павелъ, вы помогайте и пособляйте мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), своими святыми молитвами, пасти скотъ милой и любимой крестьянской животъ, и обнесите, государи мои, кругъ стада моего и всей поскотины моей 3 тына, желѣзный, мѣдный и булатной, и со всѣхъ 4 сторонъ, чтобы мой тотъ милой крестьянской животъ никому не истратить, не изурочить, за помощiю Вышняго Госпoда и Влыдычицы Пресвятыя Богородицы и святыхъ вселенскихъ учителей Василiя великаго, Iоанна златоустаго, Григорiя богослова и всѣхъ святыхъ твоихъ. Господи, благопрiятну сотвори нашу молитву; Господи, помилуй, яко благъ человѣколюбецъ, отъ нынѣ до вѣку меня, раба Божiя (имя рекъ), не истратить моей поскотины и животины, милой крестьянской животъ любимой, за помощiю всѣхъ святыхъ отъ нынѣ до вѣку, во вѣки, вѣковъ. Аминь. А кто станетъ портить и урочить меня, раба Божiя (имя рекъ), всю мою любимую животину и всякую животину шерстiю доморощеную, или звѣрь напущать, или звѣремъ оборачивается, волкомъ рыскучимъ и волчицею, и широколапымъ медвѣдемъ или медвѣдицею, и всякою змiею и скорпiею, и обворотнемъ перехожимъ пакостникомъ, и поползухою и всякою гадиною, тому бы человѣку очи вонъ выворотило, языкъ-бы вонъ вырвало и всякое подколѣнное жилье рвалось-бы днемъ и нощiю, на утренней зари и на вечерней, безугомонно вѣкъ во вѣку; и такому-бо человѣку, непрiятелю моему, не пособить никому, ни отцу, ни матери, ни роду, ни племени, ни колдуну, ни колдуньи, ни вѣдуну, ни вѣдуньи, ни чернецу, ни черницы, ни бѣщу, ни бѣшцы, ни троезубу, ни двоезубу, ни рѣткозубу, ни троеволосу, ни кривоволосу, ни всякому злодѣйственному человѣку, вѣкъ во вѣку до гробной доски, опречь меня, раба Божiя (имя рекъ), отъ нынѣ во вѣки вѣковъ. Аминь“.
Взять воды съ 3 ключей и говорить, идучи до 3 ключа: „во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Как я, рабъ Божiй (имя рекъ), совокупилъ съ 3 ключей воду сiю во единъ сосудъ и какъ сiя ключевая вода слилась и стекалась въ сосудѣ, такъ бы сливался и стекался нашъ скотъ, милой любимой крестьянской животъ, вся моя пастушняя животина, черныя наши коровы, красные, и бурые, и пестрые, косматые быки, нетѣли и малыя телята изъ домовъ, изъ полей и заполья, изъ зеленыхъ луговъ, изъ темныхъ лѣсовъ, во единъ кругъ, въ мою поскотину, ко мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ), на мой гласъ въ трубу трубящую и въ рогъ играющи; и какъ сiя ключевая вода течетъ не мѣшается изъ сихъ трехъ ключей въ синее море, окiянъ, такъ-бы нашъ скотъ, милой и любимой крестьянской животъ стекался и сбѣгался въ домы свои, въ день и нощь, во всякой часъ, на концѣ и въ ущербѣ, и на исходѣ и на новкѣ, и въ 24 часа и въ единъ часъ, и въ четверть часа, отъ нынѣ и до вѣка и во вѣки вѣковъ. Аминь, аминь, аминь“.
Чтенiе, изложенной молитвы, обыкновенно, бывает въ первый день выгона скота на пастьбище и сопровождается разными причудами со стороны пастуха. По большей части, пастухъ бываетъ не грамотный; тогда приглашается имъ грамотѣй, который три раза читаетъ молитву, обходя стадо, вмѣстѣ съ пастухомъ, считающимъ непремѣннымъ долгомъ покропить водою, взятою изъ 3 ключей, каждаго животнаго ввѣреннаго ему стада. По прочтенiи молитвы и окропленiи стада, пастухъ принимаетъ остатки воды и рукопись отъ чтеца и въ свою очередь тоже кропитъ его водою, боясь, чтобы онъ чего-либо не похитилъ изъ молитвы, удаляется въ лѣсъ и тамъ прячетъ принадлежащую ему молитву, гдѣ вздумается; остатки же воды или выпиваетъ, или же изливаетъ на землю подъ камень».
В заключение статьи следует подпись автора: «Учитель В. Ребров. / Село Девятины. / Вытегорскаго уѣзда. / 12 февраля 1879 года» [Ребров 1886. С. 49‒54].
Иногда, впрочем, запрет можно было обойти хитростью:
«<А вот, что-то я слышал, что пастуху нельзя грибов собирать и ягод?>
Бывает, бывает. У нас был дедка один такой, как ведь — только ртом и ел ягоды-те.
<Как ртом?>
А потому что нельзя рукой было брать.
<Рукой брать нельзя?>
Да, ел, ел — так позгал [познал(?), — прим. В.].
<А как это называется — „обход брать“?>
Да, да — у них отпуск, отпуск.
<То есть на это как бы договор такой?>
Да, да, да.
<А если сорвет рукой?>
А рукой дак — съел медведь корову в деревне тогда у ево» [МПСД II 2020. С. 354‒355 (№ 700)].
А.Б. Мороз, исследовавший пастушескую обрядность Русского Севера, писал следующее: «После принятия отпуска пастух должен был в течение всего сезона пастьбы соблюдать ряд запретов. В нашем материале не содержится указаний на принципиальное различие в поведении пастуха, пасущего лесом или божественным отпуском — разница имеется только в нескольких деталях, например, при божественном отпуске пастуху запрещалось есть красные ягоды, а при лесном — черные. Итак, пастуху на срок действия отпуска не разрешалось:
а) собирать грибы, есть ягоды или уносить их из леса, ломать ветки, разорять птичьи гнезда, муравейники, ловить, убивать зайцев и других лесных животных, хлыстать по траве, по земле, ловить и есть рыбу, в первую очередь щуку, копать землю (даже в огороде) и т.д.
б) стричься и бриться, пасти в своей одежде, здороваться за руку, брать предметы непосредственно из чужих рук, перелезать через изгородь, порезаться до крови, видеть кровь и т.д.
в) спать с женщиной, пить водку, материться, браниться, есть из чужой посуды, гнать скот по селу, когда в нем покойник, ходить на похороны, лгать другим пастухам, драться и т.д.
Как видно из перечисленных фактов, запреты распространяются на образ жизни пастуха, с одной стороны, и на его взаимоотношения с лесом и, шире, — с миром природы, которому он перепоручает стадо, с другой. Пастух, пока длится сезон пастьбы и, соответственно, пока действителен отпуск, не должен нарушать целостности леса, наносить какой-либо вред, урон природе вообще. Здесь можно усмотреть характерные для обрядности в целом отношения взаимности, согласно которым блага, получаемые человеком от высших сил, должны быть оплачены им или посредникам — в связи с этим плата, пусть даже символическая, исполнителям обряда есть необходимый его элемент. В нашем случае лес, или леший (слово лес может использоваться как одно из обозначений лешего: лес праведной, лес богатой), пасет и оберегает скотину, пастух же оберегает лес. Соответственно, нарушение целостности леса со стороны пастуха повлечет нарушение целостности стада со стороны леса/лешего. Поэтому даже погонялку — ветку, которой пастух гоняет стадо, — следует заготовить заранее, до принятия отпуска. При этом обычно делалось сразу несколько их, чтобы не остаться в середине пастбищного сезона без вицы, если одна сломается» [Мороз 2001. С. 240‒241].
«Однако иногда отмечается, что в случае нарушения отпуска, то есть несоблюдения запретов, особенно касающихся сохранения ритуальной чистоты, пастух мог исправить положение, вымывшись в бане. Помимо того, искупить вину можно было, задобрив лешего и попросив у него прощения: леший в наказание „угонит группу коров да и три дня не отдаст. Вина ему бутылку неси. <...> чтобы прощенье дал. Вот опять в двенадцать ночи идёшь, просишь. Ево не называешь, а ″хозяин, хозяин-барин, где мои коровы?″ — Проштрафился, — говорит, — так поищи сам. [Водку, когда идешь у лешего прощения просить,] поставишь там опять в [лесную пастушью] избушку, он унесёт“» [Мороз 2001. С. 244].
В некоторых случаях речь идёт о своего рода «тайном знании» [Мороз 2003] или особых оккультных способностях пастуха, выходящих за рамки обычных человеческих. Не случайно «на русском Севере пастухи приравниваются к колдунам, считаются знающими и умеющими договариваться с лешим» [Мороз 2001. С. 242]. Для примера можно привести вот такой рассказ: «Жил в селе дед Никон. Все говорили, что он с обходом. Я пасла овец. Легла в борозду и лежала. <Этот дед Никон пас коров.> Волк зашел в стадо коров. Я кричу: „Дядя Никон, волк-то, волк-то!“ А Никон мне: „Выйди, выйди из стада. Ты выйдешь, ему все коровы за пеньки покажутся“. Дед уже знал, что евонных коров никто не тронет» [МПСД II 2020. С. 48‒49 (№ 111)].
А вот заговор XIX в. из «Белорусского сборника» Е.Р. Романова, который призван делать скотину «невидимой» для волков, «оборачивая» домашнее животное в глазах хищника в пень или куст, гору, курган и т.п.: «Помолимся мы Господу Богу и святому Юрію, и святому Хролỳ и Лаврію, и Ўласію и Панасію объ роговомъ скоту, и Христовому Настасію и Мамонцію объ овецъ, и Василію Русалимскому объ свиней, — примиця, Господзи, прошенія и молитвы наши объ скоцинцы двушерстныя. Отдаёмъ скоцинку на ваши руки, на божжія росы; помилуй яе Господзи подъ своими ՚блàками и подъ своими лицами Господними; помилуй Божа подъ цёмными ночами, подъ грозными тучами, помилуй Божа отъ вовкà-яркà, отъ вовчицы-ярчнцы, отъ вовченятъ-ярченятъ; отъ вовка Мосея, отъ вовчицы Калины. Якъ мѣсяцъ Господній нарождаетца, жаркимъ сонцамъ ограждаетца, оградзи яе Богъ отъ усякихъ злучіевъ худыхъ. Обырачàетца скоцинка у лѣси копиною и выскадьдзёю, и зялёнымъ кустомъ, a ў поли — горою, a ў лузи — курганомъ, а ў лядзи — пенюхóмъ. Помилуй яé Божа на ўсякое уремечко, на ўсякій часочекъ, на ўсякій разочекъ, на ўсякую годзину, на ўсякую минуту, на ўсякимъ мѣсьци, на своёмъ пришестви» [Романов V 1891. С. 152‒153 (№ 51 в «Дополненiяхъ»)].
Ср. способ «отвести глаза» волкам в пастушеском заговоре «Уход за скотом» из «Великорусских заклинаний» Л.Н. Майкова: «иногда прибѣжитъ насланный волкъ отъ лихого человѣка, или жировой медвѣдь, или медвѣдица, или жировой волкъ въ мое счетное стадо, — то казался бы мой скотъ звѣрю медвѣдю и волку при травѣ травой, при ручьѣ ручьемъ, при рѣкѣ рѣкой, при болотѣ болотомъ, при лѣсѣ лѣсомъ, при пнѣ пнемъ, при колодьѣ колодьемъ, при камени камнемъ, и всякому звѣрю и нечистому духу огнемъ и горькимъ дымомъ» [Майков 1869. С. 118 (№ 285)].
Иногда на волков и других хищных зверей, а также на «злых людей» наводится полная «слепота», как, например, в следующем заговоре, записанном в 2001 г. в Вологодской области: «Он пустит, дак что закроет глаза и пропускает скотину, сам говорит: „Как я далеко не вижу, так чтобы мою скотинку никто не видел: ни волки, ни медведи, ни собаки, ни росомахи, ни хищные звери, ни злые люди“. Выпустит через отводочек со... сам он глаз не откроет, пока все не выйдут. А там человек стоит. Только тот человек кашлянёт, он уже глаза открывает, и это скотину зверь уже не тронет. Далеконь не видишь, так и скотину будет видеть» [МПСД II 2020. С. 255 (№ 551)].
В полесском заговоре, записанном в 1982 г. в с. Борчанки (Присно) Ветковского р-на Гомельской области, который нужно было говорить перед тем, как отправляться в путь, «невидимыми» для волков становятся сами люди или человек, читавший заговор: «На балóци радзи́лись, / Слепы́я хрясци́лись, / Ничóго ня бáчили, / Чтóбы и нас ня бáчили (вар.: Чтобы и мене ня бáчыли)» [ПЗ 2003. С. 397 (№ 710)]. Ср. также слова заговора от волков (замова ад ваўкоў), записанного в Белоруссии в 2006 г.: «Ваўкi, ваўкi, раджалiся вы сляпымi, людзей не бачылi, кроўю не ўмывалiся. Не бачце мяне» [Замовы 2009. С. 129 (№ 530)]; или в заговоре от собаки (ад сабакi): «Не бачыш ты свету, / Не бач ты i мяне» [Замовы 2009. С. 131 (№ 542)].
В некоторых случаях волкам «замыкают» зубы/пасти посредством вербальной магии, наподобие следующего белорусского заговора от волка (ад ваўка): «Загаворваю, замаўляю, ваўку зубы замыкаю, ваўку, ваўчанятам, так i iхнiм шчанятам (Паўтарыць 3 разы)» [Замовы 2009. С. 129 (№ 531)]; или отгораживаются от них «каменной стеной»: «Закачу, завалю камянною сцяною, божыя мiласьцi просючы, ад воўка-царыка, ад ваўчыцы-царыцы» [Замовы 1992. С. 72 (№ 147)]. Впрочем, далее в этом же заговоре волку «отводят глаза», заставляя его видеть вместо скотины объекты растительной природы и даже обгоревшую головню или покрытую мхом кочку: «Прашу Госпада Бога: калi конь мой — скiнься зялёным яварам, а карова — зялёнаю ракiтаю, а свiння — чорнаю махныткаю (галаўнёю), а авечка — махавою кочкаю» [Замовы 1992. С. 72 (№ 147)].
Также пастухам приписывается хранимое ими в тайне от остальных «знание» о лешем и других природных духах: «оне договариваются, говорят, с лесным. <...>
<А как он выглядит, никакой пастух не рассказывал?>
Им запрещено даже разговаривать, вот если выгоняют, дак чтобы ни с кем не разговаривать и не нар... не лишнего слова. Пастуху.
<То есть никто не знает, как выглядит лесной?>
Хто пасет, пастух, берет отпуск, тот знает. Он знает и видит, видимо. Я так предполагаю, что оне встречаютсе. Но ёму распространитьсе нельзя. И закона чтобы не нарушить закона, какой дан. Но, это, можот быть, и правда, можот, и неправда. Но мне кажется, правда» (зап. от мужчины, 1927 г.р., в 2002 г. в Вологодской обл.) [МПСД II 2020. С. 254‒255 (№ 550)].
В заговорах позднего времени всё чаще обращаются уже не к Божеству или духу-покровителю леса, а к самому лесу (=лешему и/или лесу как живому существу?), с которым могут здороваться, как с человеком, — ср., например, в одном заговоре от волков, змей и других диких животных, записанном в 2003 г. в Белоруссии (замова ў лесе): «Добры дзень, лясочак» [Замовы 2009. С. 130 (№ 538)].
Помимо пастуха, пасущего скот, хозяева скотины также могли пользоваться известными им магическими приёмами: «Например, если корова заблудилась в лесу и не вернулась домой, хозяин у себя дома использует апотропеическую [т.е. защитную, обережную, — прим. В.] магию, чтобы уберечь корову от волков: затыкает в стену нож, накрывает камень или угли горшком, произносит заговоры и т.д.» [Левкиевская 2002‒3. С. 23].
Иногда, впрочем, запрет можно было обойти хитростью:
«<А вот, что-то я слышал, что пастуху нельзя грибов собирать и ягод?>
Бывает, бывает. У нас был дедка один такой, как ведь — только ртом и ел ягоды-те.
<Как ртом?>
А потому что нельзя рукой было брать.
<Рукой брать нельзя?>
Да, ел, ел — так позгал [познал(?), — прим. В.].
<А как это называется — „обход брать“?>
Да, да — у них отпуск, отпуск.
<То есть на это как бы договор такой?>
Да, да, да.
<А если сорвет рукой?>
А рукой дак — съел медведь корову в деревне тогда у ево» [МПСД II 2020. С. 354‒355 (№ 700)].
А.Б. Мороз, исследовавший пастушескую обрядность Русского Севера, писал следующее: «После принятия отпуска пастух должен был в течение всего сезона пастьбы соблюдать ряд запретов. В нашем материале не содержится указаний на принципиальное различие в поведении пастуха, пасущего лесом или божественным отпуском — разница имеется только в нескольких деталях, например, при божественном отпуске пастуху запрещалось есть красные ягоды, а при лесном — черные. Итак, пастуху на срок действия отпуска не разрешалось:
а) собирать грибы, есть ягоды или уносить их из леса, ломать ветки, разорять птичьи гнезда, муравейники, ловить, убивать зайцев и других лесных животных, хлыстать по траве, по земле, ловить и есть рыбу, в первую очередь щуку, копать землю (даже в огороде) и т.д.
б) стричься и бриться, пасти в своей одежде, здороваться за руку, брать предметы непосредственно из чужих рук, перелезать через изгородь, порезаться до крови, видеть кровь и т.д.
в) спать с женщиной, пить водку, материться, браниться, есть из чужой посуды, гнать скот по селу, когда в нем покойник, ходить на похороны, лгать другим пастухам, драться и т.д.
Как видно из перечисленных фактов, запреты распространяются на образ жизни пастуха, с одной стороны, и на его взаимоотношения с лесом и, шире, — с миром природы, которому он перепоручает стадо, с другой. Пастух, пока длится сезон пастьбы и, соответственно, пока действителен отпуск, не должен нарушать целостности леса, наносить какой-либо вред, урон природе вообще. Здесь можно усмотреть характерные для обрядности в целом отношения взаимности, согласно которым блага, получаемые человеком от высших сил, должны быть оплачены им или посредникам — в связи с этим плата, пусть даже символическая, исполнителям обряда есть необходимый его элемент. В нашем случае лес, или леший (слово лес может использоваться как одно из обозначений лешего: лес праведной, лес богатой), пасет и оберегает скотину, пастух же оберегает лес. Соответственно, нарушение целостности леса со стороны пастуха повлечет нарушение целостности стада со стороны леса/лешего. Поэтому даже погонялку — ветку, которой пастух гоняет стадо, — следует заготовить заранее, до принятия отпуска. При этом обычно делалось сразу несколько их, чтобы не остаться в середине пастбищного сезона без вицы, если одна сломается» [Мороз 2001. С. 240‒241].
«Однако иногда отмечается, что в случае нарушения отпуска, то есть несоблюдения запретов, особенно касающихся сохранения ритуальной чистоты, пастух мог исправить положение, вымывшись в бане. Помимо того, искупить вину можно было, задобрив лешего и попросив у него прощения: леший в наказание „угонит группу коров да и три дня не отдаст. Вина ему бутылку неси. <...> чтобы прощенье дал. Вот опять в двенадцать ночи идёшь, просишь. Ево не называешь, а ″хозяин, хозяин-барин, где мои коровы?″ — Проштрафился, — говорит, — так поищи сам. [Водку, когда идешь у лешего прощения просить,] поставишь там опять в [лесную пастушью] избушку, он унесёт“» [Мороз 2001. С. 244].
В некоторых случаях речь идёт о своего рода «тайном знании» [Мороз 2003] или особых оккультных способностях пастуха, выходящих за рамки обычных человеческих. Не случайно «на русском Севере пастухи приравниваются к колдунам, считаются знающими и умеющими договариваться с лешим» [Мороз 2001. С. 242]. Для примера можно привести вот такой рассказ: «Жил в селе дед Никон. Все говорили, что он с обходом. Я пасла овец. Легла в борозду и лежала. <Этот дед Никон пас коров.> Волк зашел в стадо коров. Я кричу: „Дядя Никон, волк-то, волк-то!“ А Никон мне: „Выйди, выйди из стада. Ты выйдешь, ему все коровы за пеньки покажутся“. Дед уже знал, что евонных коров никто не тронет» [МПСД II 2020. С. 48‒49 (№ 111)].
А вот заговор XIX в. из «Белорусского сборника» Е.Р. Романова, который призван делать скотину «невидимой» для волков, «оборачивая» домашнее животное в глазах хищника в пень или куст, гору, курган и т.п.: «Помолимся мы Господу Богу и святому Юрію, и святому Хролỳ и Лаврію, и Ўласію и Панасію объ роговомъ скоту, и Христовому Настасію и Мамонцію объ овецъ, и Василію Русалимскому объ свиней, — примиця, Господзи, прошенія и молитвы наши объ скоцинцы двушерстныя. Отдаёмъ скоцинку на ваши руки, на божжія росы; помилуй яе Господзи подъ своими ՚блàками и подъ своими лицами Господними; помилуй Божа подъ цёмными ночами, подъ грозными тучами, помилуй Божа отъ вовкà-яркà, отъ вовчицы-ярчнцы, отъ вовченятъ-ярченятъ; отъ вовка Мосея, отъ вовчицы Калины. Якъ мѣсяцъ Господній нарождаетца, жаркимъ сонцамъ ограждаетца, оградзи яе Богъ отъ усякихъ злучіевъ худыхъ. Обырачàетца скоцинка у лѣси копиною и выскадьдзёю, и зялёнымъ кустомъ, a ў поли — горою, a ў лузи — курганомъ, а ў лядзи — пенюхóмъ. Помилуй яé Божа на ўсякое уремечко, на ўсякій часочекъ, на ўсякій разочекъ, на ўсякую годзину, на ўсякую минуту, на ўсякимъ мѣсьци, на своёмъ пришестви» [Романов V 1891. С. 152‒153 (№ 51 в «Дополненiяхъ»)].
Ср. способ «отвести глаза» волкам в пастушеском заговоре «Уход за скотом» из «Великорусских заклинаний» Л.Н. Майкова: «иногда прибѣжитъ насланный волкъ отъ лихого человѣка, или жировой медвѣдь, или медвѣдица, или жировой волкъ въ мое счетное стадо, — то казался бы мой скотъ звѣрю медвѣдю и волку при травѣ травой, при ручьѣ ручьемъ, при рѣкѣ рѣкой, при болотѣ болотомъ, при лѣсѣ лѣсомъ, при пнѣ пнемъ, при колодьѣ колодьемъ, при камени камнемъ, и всякому звѣрю и нечистому духу огнемъ и горькимъ дымомъ» [Майков 1869. С. 118 (№ 285)].
Иногда на волков и других хищных зверей, а также на «злых людей» наводится полная «слепота», как, например, в следующем заговоре, записанном в 2001 г. в Вологодской области: «Он пустит, дак что закроет глаза и пропускает скотину, сам говорит: „Как я далеко не вижу, так чтобы мою скотинку никто не видел: ни волки, ни медведи, ни собаки, ни росомахи, ни хищные звери, ни злые люди“. Выпустит через отводочек со... сам он глаз не откроет, пока все не выйдут. А там человек стоит. Только тот человек кашлянёт, он уже глаза открывает, и это скотину зверь уже не тронет. Далеконь не видишь, так и скотину будет видеть» [МПСД II 2020. С. 255 (№ 551)].
В полесском заговоре, записанном в 1982 г. в с. Борчанки (Присно) Ветковского р-на Гомельской области, который нужно было говорить перед тем, как отправляться в путь, «невидимыми» для волков становятся сами люди или человек, читавший заговор: «На балóци радзи́лись, / Слепы́я хрясци́лись, / Ничóго ня бáчили, / Чтóбы и нас ня бáчили (вар.: Чтобы и мене ня бáчыли)» [ПЗ 2003. С. 397 (№ 710)]. Ср. также слова заговора от волков (замова ад ваўкоў), записанного в Белоруссии в 2006 г.: «Ваўкi, ваўкi, раджалiся вы сляпымi, людзей не бачылi, кроўю не ўмывалiся. Не бачце мяне» [Замовы 2009. С. 129 (№ 530)]; или в заговоре от собаки (ад сабакi): «Не бачыш ты свету, / Не бач ты i мяне» [Замовы 2009. С. 131 (№ 542)].
В некоторых случаях волкам «замыкают» зубы/пасти посредством вербальной магии, наподобие следующего белорусского заговора от волка (ад ваўка): «Загаворваю, замаўляю, ваўку зубы замыкаю, ваўку, ваўчанятам, так i iхнiм шчанятам (Паўтарыць 3 разы)» [Замовы 2009. С. 129 (№ 531)]; или отгораживаются от них «каменной стеной»: «Закачу, завалю камянною сцяною, божыя мiласьцi просючы, ад воўка-царыка, ад ваўчыцы-царыцы» [Замовы 1992. С. 72 (№ 147)]. Впрочем, далее в этом же заговоре волку «отводят глаза», заставляя его видеть вместо скотины объекты растительной природы и даже обгоревшую головню или покрытую мхом кочку: «Прашу Госпада Бога: калi конь мой — скiнься зялёным яварам, а карова — зялёнаю ракiтаю, а свiння — чорнаю махныткаю (галаўнёю), а авечка — махавою кочкаю» [Замовы 1992. С. 72 (№ 147)].
Также пастухам приписывается хранимое ими в тайне от остальных «знание» о лешем и других природных духах: «оне договариваются, говорят, с лесным. <...>
<А как он выглядит, никакой пастух не рассказывал?>
Им запрещено даже разговаривать, вот если выгоняют, дак чтобы ни с кем не разговаривать и не нар... не лишнего слова. Пастуху.
<То есть никто не знает, как выглядит лесной?>
Хто пасет, пастух, берет отпуск, тот знает. Он знает и видит, видимо. Я так предполагаю, что оне встречаютсе. Но ёму распространитьсе нельзя. И закона чтобы не нарушить закона, какой дан. Но, это, можот быть, и правда, можот, и неправда. Но мне кажется, правда» (зап. от мужчины, 1927 г.р., в 2002 г. в Вологодской обл.) [МПСД II 2020. С. 254‒255 (№ 550)].
В заговорах позднего времени всё чаще обращаются уже не к Божеству или духу-покровителю леса, а к самому лесу (=лешему и/или лесу как живому существу?), с которым могут здороваться, как с человеком, — ср., например, в одном заговоре от волков, змей и других диких животных, записанном в 2003 г. в Белоруссии (замова ў лесе): «Добры дзень, лясочак» [Замовы 2009. С. 130 (№ 538)].
Помимо пастуха, пасущего скот, хозяева скотины также могли пользоваться известными им магическими приёмами: «Например, если корова заблудилась в лесу и не вернулась домой, хозяин у себя дома использует апотропеическую [т.е. защитную, обережную, — прим. В.] магию, чтобы уберечь корову от волков: затыкает в стену нож, накрывает камень или угли горшком, произносит заговоры и т.д.» [Левкиевская 2002‒3. С. 23].
Święty Mikołaju, weź kluczyki z raju,
Pozamykaj wściekłego psa, wilka leśnego!
Aby ni miał mocy do cielątek, do bydlątek —
Krwie chlapać, skóry drapać,
Kości po lesie roznosić.
[Святой Николай, возьми ключики из рая,
Замкни бешеного пса, лесного волка,
Чтобы не имел силы к теляткам, к скотинке,
Кровь пить, шкуру драть,
Кости по лесу разносить.]
Обыкновенно при этом говорится о замыкании пасти лесному зверю:
Święty Mikołaju, weź kluczyki z raju:
Zamknij paszczękę psu wścieklemu,
Wilkowi leśnemu!
Niech po bydlątku i po cielątku
Krewki nie chlipają,
Skórki nie drapają.
[Святой Николай, возьми ключики из рая,
Замкни пасть псу бешеному,
Волку лесному!
Пусть у скотинки, у теленка
Кровь не пьют,
Шкуры не дерут.]
Иногда, однако, имеется в виду, насколько можно понять, замыкание глаз лесного зверя:
Święty Mikołaju,
Weź kluczyki z raju!
Zamknij psa wściekłego i wilka leśnego,
Niech nie patrzy na te owce,
Co ja je pasę.
[Святой Николай,
Возьми ключики из рая!
Замкни пса бешеного и волка лесного,
Пусть не смотрят на тех овец,
Которые я пасу.]
Равным образом в молитве такого рода можно встретить заклинание, обращенное к лесному зверю, видимо, от имени св. Николая: „Ślepyś się urodził, ślepy bądź!“, т.е. „Слепым ты родился и будь слепым!“.
Остается отметить, что лесной зверь, от которого охраняет св. Николай, явным образом ассоциируется со змеем, ср.:
Święty Mikołaju, wyjm kluczyki z raju,
Zamknij pysk psu wściekłemu,
Gadоwi leśnemu,
Suce morowej!
[Святой Николай, возьми ключики из рая,
Замкни пасть бешеному псу,
Лесному гаду,
Моровой суке!]» [Успенский 1982. С. 50‒51].
Święty Mikołaju, weź kluczyki z raju,
Pozamykaj wściekłego psa, wilka leśnego!
Aby ni miał mocy do cielątek, do bydlątek —
Krwie chlapać, skóry drapać,
Kości po lesie roznosić.
[Святой Николай, возьми ключики из рая,
Замкни бешеного пса, лесного волка,
Чтобы не имел силы к теляткам, к скотинке,
Кровь пить, шкуру драть,
Кости по лесу разносить.]
Обыкновенно при этом говорится о замыкании пасти лесному зверю:
Święty Mikołaju, weź kluczyki z raju:
Zamknij paszczękę psu wścieklemu,
Wilkowi leśnemu!
Niech po bydlątku i po cielątku
Krewki nie chlipają,
Skórki nie drapają.
[Святой Николай, возьми ключики из рая,
Замкни пасть псу бешеному,
Волку лесному!
Пусть у скотинки, у теленка
Кровь не пьют,
Шкуры не дерут.]
Иногда, однако, имеется в виду, насколько можно понять, замыкание глаз лесного зверя:
Święty Mikołaju,
Weź kluczyki z raju!
Zamknij psa wściekłego i wilka leśnego,
Niech nie patrzy na te owce,
Co ja je pasę.
[Святой Николай,
Возьми ключики из рая!
Замкни пса бешеного и волка лесного,
Пусть не смотрят на тех овец,
Которые я пасу.]
Равным образом в молитве такого рода можно встретить заклинание, обращенное к лесному зверю, видимо, от имени св. Николая: „Ślepyś się urodził, ślepy bądź!“, т.е. „Слепым ты родился и будь слепым!“.
Остается отметить, что лесной зверь, от которого охраняет св. Николай, явным образом ассоциируется со змеем, ср.:
Święty Mikołaju, wyjm kluczyki z raju,
Zamknij pysk psu wściekłemu,
Gadоwi leśnemu,
Suce morowej!
[Святой Николай, возьми ключики из рая,
Замкни пасть бешеному псу,
Лесному гаду,
Моровой суке!]» [Успенский 1982. С. 50‒51].
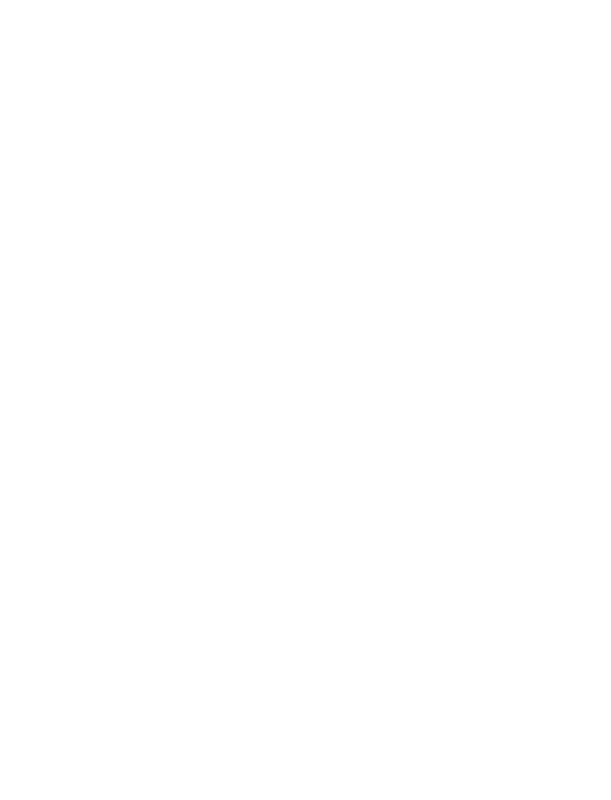
«Чудо о Флоре и Лавре» (новгородская икона, конец XV в.).
А в этом заговоре Микола с Юрием/Ягорием выступают вдвоём: «Храстомъ я кщуся (крестясь), храстомъ печатаюся. Хрэстъ надо мной и хрэстъ подо мной, и хрэстъ унутрѣ ў мяне. (Крестя стадо:) Господзь Богъ мое стадо храсцѝць храстомъ яго печатовая. (Обходя кругомъ стада:) Святый Юрій — Ягорій и святый вотчай Миколо! Святый Ягорій ѣздзивъ на своемъ сивенькомъ и бѣленькомъ кони, ѣздзивъ по ляхохъ, по полёхъ и по чистыхъ борохъ, и по зямныхъ лугохъ, и собиравъ своихъ лютыхъ псовъ, дикихъ, лясныхъ вовковъ, собиравъ сивыхъ и шѣрыхъ, и рудыхъ, и три сорты. И загонявъ ихъ за сцяну камянную, и замыкавъ имъ и зявы и роты, кабъ ня могли на мою скоцину ни на якую — ни на сивую, ни на шѣрую, ни на чорную, ни на бѣлую, зявовъ не разявиць, зубовъ не разняць, и ў мою скоцину вострыхъ своихъ нечасьцивыхъ клыковъ ня ўпущаць. Не я жъ ихъ засцяну камянную загоняю, и не я жъ имъ и зявы̀ и роты замыкаю, — загоняець ихъ, замыкаець имъ самъ святый Ягорій. И замкни святый Ягорій на ўce лѣто отъ моé скоцины, аминъ (д. Ямница, вендор, вол.)» [Романов V 1891. С. 47 (№ 174)].
Но, пожалуй, самым интересным из белорусских заговоров из раздела «Отъ вовковъ, звяровъ» является следующий, где наряду с персонажами христианской мифологии упоминается некая загадочная прародительница то ли волков, то ли псов, а также лесной «царь» и лесная «царица», причём все они — как духи и демоны в западноевропейских гримуарах — имеют свои личные имена, по которым к ним и обращается произносящий заговор: «Господу Богу помолюся и маци прячистой приклонюся. Маць прячистая востошница, скорая помошница, станьця ко мнѣ на помочь. Прошу я и Юрью-Ягорью и Миколу надзѣляющаго, и святый Пилипій и Халимоній, станьця ко мнѣ на помочь, маць прячистая на радось. На синимъ мори, на лукоморьи, ляжѝць камень лютый, у томъ камни ляжиць сука Кида, червонымъ сукномъ накрыта; породзило Кида щенятъ четырехъ: Хòмера, Хóмериха, Порфира и Ковыла. А царикъ Лѣсовикъ Бурикъ, а царица Лѣсовица Мавра, унимайця своихъ шѣрыхъ псовъ. Псы ваши торки, вочи ярки, ноги жостки, вуши бодры, хвосты довги. Вышла божая маци со свѣчами и зъ жалѣзными дубцами, святый Михаилъ съ вострыми мечами и зъ жалѣзными замками. Святый Михаилъ, ты по свѣту разъѣзджаешъ, ў золотую трубу играешъ, и своихъ псовъ судзяржаешъ, и роты замыкаешъ. Бяжи, моя скоцина, наѣдайся и ў дворъ хапайся (м. Дрибинъ, чауск. у.)» [Романов V 1891. С. 48 (№ 176)].
А в этом заговоре Микола с Юрием/Ягорием выступают вдвоём: «Храстомъ я кщуся (крестясь), храстомъ печатаюся. Хрэстъ надо мной и хрэстъ подо мной, и хрэстъ унутрѣ ў мяне. (Крестя стадо:) Господзь Богъ мое стадо храсцѝць храстомъ яго печатовая. (Обходя кругомъ стада:) Святый Юрій — Ягорій и святый вотчай Миколо! Святый Ягорій ѣздзивъ на своемъ сивенькомъ и бѣленькомъ кони, ѣздзивъ по ляхохъ, по полёхъ и по чистыхъ борохъ, и по зямныхъ лугохъ, и собиравъ своихъ лютыхъ псовъ, дикихъ, лясныхъ вовковъ, собиравъ сивыхъ и шѣрыхъ, и рудыхъ, и три сорты. И загонявъ ихъ за сцяну камянную, и замыкавъ имъ и зявы и роты, кабъ ня могли на мою скоцину ни на якую — ни на сивую, ни на шѣрую, ни на чорную, ни на бѣлую, зявовъ не разявиць, зубовъ не разняць, и ў мою скоцину вострыхъ своихъ нечасьцивыхъ клыковъ ня ўпущаць. Не я жъ ихъ засцяну камянную загоняю, и не я жъ имъ и зявы̀ и роты замыкаю, — загоняець ихъ, замыкаець имъ самъ святый Ягорій. И замкни святый Ягорій на ўce лѣто отъ моé скоцины, аминъ (д. Ямница, вендор, вол.)» [Романов V 1891. С. 47 (№ 174)].
Но, пожалуй, самым интересным из белорусских заговоров из раздела «Отъ вовковъ, звяровъ» является следующий, где наряду с персонажами христианской мифологии упоминается некая загадочная прародительница то ли волков, то ли псов, а также лесной «царь» и лесная «царица», причём все они — как духи и демоны в западноевропейских гримуарах — имеют свои личные имена, по которым к ним и обращается произносящий заговор: «Господу Богу помолюся и маци прячистой приклонюся. Маць прячистая востошница, скорая помошница, станьця ко мнѣ на помочь. Прошу я и Юрью-Ягорью и Миколу надзѣляющаго, и святый Пилипій и Халимоній, станьця ко мнѣ на помочь, маць прячистая на радось. На синимъ мори, на лукоморьи, ляжѝць камень лютый, у томъ камни ляжиць сука Кида, червонымъ сукномъ накрыта; породзило Кида щенятъ четырехъ: Хòмера, Хóмериха, Порфира и Ковыла. А царикъ Лѣсовикъ Бурикъ, а царица Лѣсовица Мавра, унимайця своихъ шѣрыхъ псовъ. Псы ваши торки, вочи ярки, ноги жостки, вуши бодры, хвосты довги. Вышла божая маци со свѣчами и зъ жалѣзными дубцами, святый Михаилъ съ вострыми мечами и зъ жалѣзными замками. Святый Михаилъ, ты по свѣту разъѣзджаешъ, ў золотую трубу играешъ, и своихъ псовъ судзяржаешъ, и роты замыкаешъ. Бяжи, моя скоцина, наѣдайся и ў дворъ хапайся (м. Дрибинъ, чауск. у.)» [Романов V 1891. С. 48 (№ 176)].
Старейшим русским заговорным текстом такого рода является магический заговор из Псалтири XV в., начинающийся словами: «Сє язъ, звѣрь юнъ, очи мои звѣр[ь]и, а гроза моя ц(а)р(є)ва. Блудитєсѧ мєнє, кр(є)стьѧнє, аки овци волка» [Топорков 2005. С. 46].
Старейшим русским заговорным текстом такого рода является магический заговор из Псалтири XV в., начинающийся словами: «Сє язъ, звѣрь юнъ, очи мои звѣр[ь]и, а гроза моя ц(а)р(є)ва. Блудитєсѧ мєнє, кр(є)стьѧнє, аки овци волка» [Топорков 2005. С. 46].
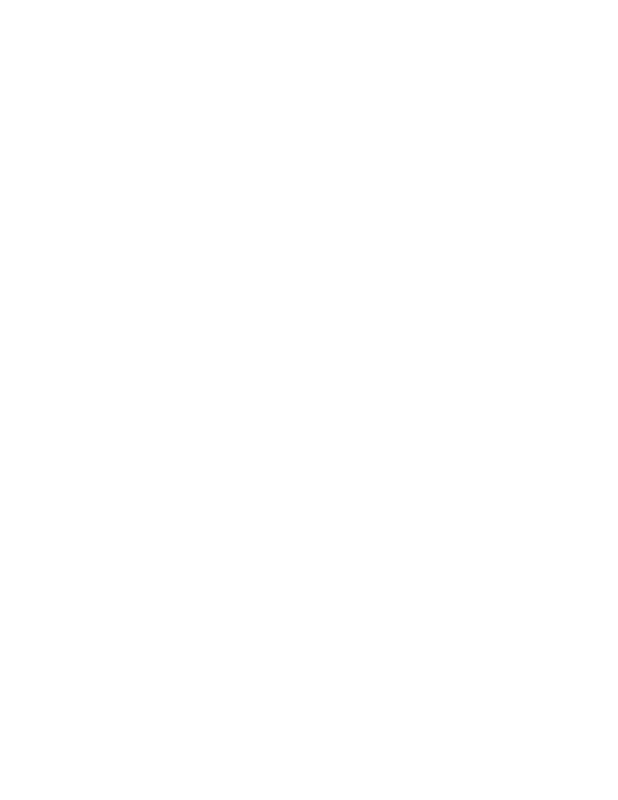
Псалтирь XV в. РНБ, Собр. Ф. А. Толстого, Q.п.1.10. Лист 175 об. со вписанным заговором [Топорков 2005. С. 47]
Из текста не вполне ясно, имеется ли здесь в виду прямое отождествление со зверем (оборотничество) или только образное сравнение с ним по признакам свирепости и царского могущества. Формула „се яз, зверь“ указывает на отождествление, однако дальше субъект заговора ведет себя вполне по-человечески. <...>
Было бы соблазнительным приписать субъекту роль языческого ведуна и способность к оборотничеству на том основании, что он говорит от лица зверя, сравнивает себя с волком и противопоставляет себя „крестьянам“. Однако этому противоречит последующий текст с его обращением к Иоанну Крестителю и Господу... <...>
Наконец, сравнительный оборот „аки овцы волка“ вводит в текст „волчью тему“, столь популярную и в книжной традиции, и в фольклоре. В принципе под „юным зверем“ в тексте может подразумеваться и волк.
<...> Косвенное подтверждение чтения „очи мои зверьи“ (т.е. ՙзвериные, как у зверя՚) можно видеть в словах заговора из вологодской рукописи начала XIX в.: „...мои очи — волчьи, а их очи овечьи“ [Виноградов I 1907. С. 9 (№ 8)].
Звериные очи неоднократно фигурируют и в других заговорах, например: „...я, раб, волк; своим ясным оком взгляну...“ [Ефименко II 1878. С. 154 (№ 10; из стар. ркп.)]; „Тело летящаго змия, очи лютаго зверя, сердце и помысли орла птицы...“ [Сазонова‒Топорков 2002. С. 278 (ркп. XVIII в.)]. <...>
„Гроза“ или „царева гроза“ неоднократно фигурирует в заговорах на власть и судей XVIII‒XIX вв., например: „Господь небесный, воевода Михаил архангел... дай мне, рабу Божию (имярек), сердце мое каменное, главу железную, нос медный, очи царския, язык золотой, и говорить речи царския, щиты булатные и грозу царскую...“ [Ефименко II 1878. С. 154‒155 (№ 10; стар. ркп.)]» [Топорков 2005. С. 46‒53].
Из текста не вполне ясно, имеется ли здесь в виду прямое отождествление со зверем (оборотничество) или только образное сравнение с ним по признакам свирепости и царского могущества. Формула „се яз, зверь“ указывает на отождествление, однако дальше субъект заговора ведет себя вполне по-человечески. <...>
Было бы соблазнительным приписать субъекту роль языческого ведуна и способность к оборотничеству на том основании, что он говорит от лица зверя, сравнивает себя с волком и противопоставляет себя „крестьянам“. Однако этому противоречит последующий текст с его обращением к Иоанну Крестителю и Господу... <...>
Наконец, сравнительный оборот „аки овцы волка“ вводит в текст „волчью тему“, столь популярную и в книжной традиции, и в фольклоре. В принципе под „юным зверем“ в тексте может подразумеваться и волк.
<...> Косвенное подтверждение чтения „очи мои зверьи“ (т.е. ՙзвериные, как у зверя՚) можно видеть в словах заговора из вологодской рукописи начала XIX в.: „...мои очи — волчьи, а их очи овечьи“ [Виноградов I 1907. С. 9 (№ 8)].
Звериные очи неоднократно фигурируют и в других заговорах, например: „...я, раб, волк; своим ясным оком взгляну...“ [Ефименко II 1878. С. 154 (№ 10; из стар. ркп.)]; „Тело летящаго змия, очи лютаго зверя, сердце и помысли орла птицы...“ [Сазонова‒Топорков 2002. С. 278 (ркп. XVIII в.)]. <...>
„Гроза“ или „царева гроза“ неоднократно фигурирует в заговорах на власть и судей XVIII‒XIX вв., например: „Господь небесный, воевода Михаил архангел... дай мне, рабу Божию (имярек), сердце мое каменное, главу железную, нос медный, очи царския, язык золотой, и говорить речи царския, щиты булатные и грозу царскую...“ [Ефименко II 1878. С. 154‒155 (№ 10; стар. ркп.)]» [Топорков 2005. С. 46‒53].
У славян, как и у других народов Евразии, было широко распространено верование в волков-оборотней, имеющее весьма архаический характер [Иванов 1975; Свешникова 1979; Иванчик 1988; Петрухин 1993; Ито 1993; Балушок 1993; Арнаутова 1997; Балушок 1998; Балушок 2001; Гура 1995; Гура 1997. С. 122‒159; Гура‒Левкиевская 1995; Творогов 1995; Jacoby 1974; Eisler 1978; Otten 1986; Breen 1999; Lecouteux 2001; Stephens 2002; Maiello 2004]. Ритуальной основой для самоотождествления с волком могло быть надевание волчьей шкуры или подражание волчьему вою. Еще Псевдо-Кесарий (VI в.) упоминал о том, что славяне перекликаются друг с другом волчьим воем [СДПИС I 1994. С. 254]. По сообщению Льва Диакона (X в.), русы во время боя рычали наподобие зверей [Лев Диакон 1988. С. 70; см. также: С. 74, 80, 128]. Обычай рядиться в волчьи маски был известен у поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, сербов, хорватов [Балушок 2001. С. 219]» [Топорков 2005. С. 76].
У славян, как и у других народов Евразии, было широко распространено верование в волков-оборотней, имеющее весьма архаический характер [Иванов 1975; Свешникова 1979; Иванчик 1988; Петрухин 1993; Ито 1993; Балушок 1993; Арнаутова 1997; Балушок 1998; Балушок 2001; Гура 1995; Гура 1997. С. 122‒159; Гура‒Левкиевская 1995; Творогов 1995; Jacoby 1974; Eisler 1978; Otten 1986; Breen 1999; Lecouteux 2001; Stephens 2002; Maiello 2004]. Ритуальной основой для самоотождествления с волком могло быть надевание волчьей шкуры или подражание волчьему вою. Еще Псевдо-Кесарий (VI в.) упоминал о том, что славяне перекликаются друг с другом волчьим воем [СДПИС I 1994. С. 254]. По сообщению Льва Диакона (X в.), русы во время боя рычали наподобие зверей [Лев Диакон 1988. С. 70; см. также: С. 74, 80, 128]. Обычай рядиться в волчьи маски был известен у поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, сербов, хорватов [Балушок 2001. С. 219]» [Топорков 2005. С. 76].
- Псевдо-Кесарий (возможно, был монахом константинопольского монастыря Акамитон в VI в.) писал о «склавинах», что они живут, «питаясь лисами, и лесными кошками, и кабанами, перекликаясь же волчьим воем» [СДПИС I 1994. С. 254]. В научном комментарии к публикации данного свидетельства читаем: «„Волчий вой“ считался в византийской литературе характерной чертой дикости [Дуйчев 1963. С. 115‒116]. Упоминание этого обычая в средневековых текстах, независимых от греческой ученой традиции, например в славянских [Steindorff 1985], заставляет предполагать существование такого обычая и у степных кочевников, с которыми сталкивались славяне [ср.: „и яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отъѣха от вой, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози“ [ПВЛ 1999. С. 115], — прим. В.]. Известно тотемистическое значение волка у тюркских племен. Ф. Малингудис предполагает, что многочисленные славянские топонимы со значением волчьего воя, а также образ „вурдалака˂волкодлака“ в славянском фольклоре указывают на ритуальную практику языческих жрецов у славян. Сведения о них в искаженной форме и дошли, по мнению Малингудиса, до Псевдо-Кесария» [СДПИС I 1994. С. 258‒259 (сноска № 15)].
- Лев Диакон (один из крупнейших византийских авторов второй половины X в.) сообщает (История: VIII, 4), что перед битвой «тавроскифы» (=росы) «выстроились в грозный боевой порядок, выступили на ровное поле перед городом и, рыча наподобие зверей, испуская странные, непонятные возгласы, бросились на ромеев» [Лев Диакон 1988. С. 70]. И далее (VIII, 10): «росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя как одержимые, на ромеев» [Лев Диакон 1988. С. 74]. Воины князя «Сфендослава» (Святослава) во время битвы под Доростолом «с дикими, пронзительными воплями начали теснить ромеев» (IX, 9) [Лев Диакон 1988. С. 80]. Византийский чиновник, хронист XI — начала XII в. Иоанн Скилица, описывая тризну воинов Святослава по погибшим собратьям, упоминает «звериный рёв или вой», который слышали ромеи: «варвары провели наступившую ночь без сна и оплакивали павших в сражении дикими и повергающими в ужас воплями, так что слышавшим их казалось, что это звериный рев или вой, но не плач и рыдания людей» [Лев Диакон 1988. С. 128].
- Псевдо-Кесарий (возможно, был монахом константинопольского монастыря Акамитон в VI в.) писал о «склавинах», что они живут, «питаясь лисами, и лесными кошками, и кабанами, перекликаясь же волчьим воем» [СДПИС I 1994. С. 254]. В научном комментарии к публикации данного свидетельства читаем: «„Волчий вой“ считался в византийской литературе характерной чертой дикости [Дуйчев 1963. С. 115‒116]. Упоминание этого обычая в средневековых текстах, независимых от греческой ученой традиции, например в славянских [Steindorff 1985], заставляет предполагать существование такого обычая и у степных кочевников, с которыми сталкивались славяне [ср.: „и яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отъѣха от вой, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози“ [ПВЛ 1999. С. 115], — прим. В.]. Известно тотемистическое значение волка у тюркских племен. Ф. Малингудис предполагает, что многочисленные славянские топонимы со значением волчьего воя, а также образ „вурдалака˂волкодлака“ в славянском фольклоре указывают на ритуальную практику языческих жрецов у славян. Сведения о них в искаженной форме и дошли, по мнению Малингудиса, до Псевдо-Кесария» [СДПИС I 1994. С. 258‒259 (сноска № 15)].
- Лев Диакон (один из крупнейших византийских авторов второй половины X в.) сообщает (История: VIII, 4), что перед битвой «тавроскифы» (=росы) «выстроились в грозный боевой порядок, выступили на ровное поле перед городом и, рыча наподобие зверей, испуская странные, непонятные возгласы, бросились на ромеев» [Лев Диакон 1988. С. 70]. И далее (VIII, 10): «росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя как одержимые, на ромеев» [Лев Диакон 1988. С. 74]. Воины князя «Сфендослава» (Святослава) во время битвы под Доростолом «с дикими, пронзительными воплями начали теснить ромеев» (IX, 9) [Лев Диакон 1988. С. 80]. Византийский чиновник, хронист XI — начала XII в. Иоанн Скилица, описывая тризну воинов Святослава по погибшим собратьям, упоминает «звериный рёв или вой», который слышали ромеи: «варвары провели наступившую ночь без сна и оплакивали павших в сражении дикими и повергающими в ужас воплями, так что слышавшим их казалось, что это звериный рев или вой, но не плач и рыдания людей» [Лев Диакон 1988. С. 128].
„Чаровникъ, в нихъ ж сѹть вся 12 о провєтных лиць звѣринъ и птичих, сє жє єс(ть) пръвоє тѣло своє хранит мєртво, и лєтаєт орломъ, и ястрєбом, вороном, дятлом, рыщут лютым звѣрєм, вєпрємъ дикымъ, волком, лѣтают змıємь и рыщуть рысıю и мєдвѣдємь“ [Грицевская 2003. С. 181‒182 (ркп. 3-й четв. XV в.)].
По-видимому, такая книга действительно существовала, хотя до нашего времени она и не дошла [Турилов‒Чернецов 1986. С. 99‒100]. Кто знает, может быть, она еще и будет обнаружена в одном из архивов или в какой-нибудь заброшенной деревне... <...>
Сам образ зверя-оборотня изначально имеет двойственную природу: по фольклорным представлениям, оборотнем может быть и ведун, который специально превращается в зверя, и обычный человек, которого обернули в животное насильно; он может выступать и в роли хищника (убийцы, преследователя), и в роли жертвы (изгоя, преследуемого) [Иванов 1980. С. 242]. У славян и скандинавов „волком“ традиционно называли преступника, в том числе и вора [Иванов 1975. С. 401‒405; Петрухин 1993. С. 129].
Описание „звериной“ метаморфозы встречается в свадебном обереге из Великоустюжского сборника 2-й четверти XVII в.: „И святыи Козма и Домьян, и Пречистая Мати Божия, святые Георгие, попущайте, государи, от поезду княжево всяково ведуна, и ведунии, и всяково чародея и тяпосника в чистое поле овцами горепашницами, а князя молодово, и со княгинею молодою, и с тысецким, и зь бояры, и со всеми поежаны отпущайте весь поезд в чистое поле волками серыми на те овцы“ [Великоустюжский сб. 2002. С. 220]. Этот заговор коррелирует с быличками и поверьями о превращении в волков участников свадебного поезда, однако такая метаморфоза в данном случае рисуется как желательная, а не вредоносная.
Звери-оборотни упоминаются и в недатированном пастушеском „отпуске“ из Олонецкого края: „А буде меня, раба Божия (имярек), кто станет портить и урочить всякой зверь, волк рыскучей и волчица, широколапой медведь, и медведица, и ни змей скорпий и всякой ехидной человек, злодейственной перехожей пакостник и обворотень, зверем подходя или гадиной ползущей станет, и всю мою животину, милой крестьянской живот станет кто портить, и Михайла архангел со всею небесною силою сойдет и разошлет на все 4 стороны...“ [Ребров 1886. С. 50‒51 (недатир. ркп.)].
Весьма вероятно, что и в нашем тексте отразились представления о волках-оборотнях, широко распространенные с эпохи Древней Руси до XVIII‒XIX вв. В то же время книжный характер текста и отсутствие ясности в вопросе о том, какой именно зверь имеется здесь в виду, мешают видеть в тексте прямое выражение народных поверий» [Топорков 2005. С. 76‒77].
„Чаровникъ, в нихъ ж сѹть вся 12 о провєтных лиць звѣринъ и птичих, сє жє єс(ть) пръвоє тѣло своє хранит мєртво, и лєтаєт орломъ, и ястрєбом, вороном, дятлом, рыщут лютым звѣрєм, вєпрємъ дикымъ, волком, лѣтают змıємь и рыщуть рысıю и мєдвѣдємь“ [Грицевская 2003. С. 181‒182 (ркп. 3-й четв. XV в.)].
По-видимому, такая книга действительно существовала, хотя до нашего времени она и не дошла [Турилов‒Чернецов 1986. С. 99‒100]. Кто знает, может быть, она еще и будет обнаружена в одном из архивов или в какой-нибудь заброшенной деревне... <...>
Сам образ зверя-оборотня изначально имеет двойственную природу: по фольклорным представлениям, оборотнем может быть и ведун, который специально превращается в зверя, и обычный человек, которого обернули в животное насильно; он может выступать и в роли хищника (убийцы, преследователя), и в роли жертвы (изгоя, преследуемого) [Иванов 1980. С. 242]. У славян и скандинавов „волком“ традиционно называли преступника, в том числе и вора [Иванов 1975. С. 401‒405; Петрухин 1993. С. 129].
Описание „звериной“ метаморфозы встречается в свадебном обереге из Великоустюжского сборника 2-й четверти XVII в.: „И святыи Козма и Домьян, и Пречистая Мати Божия, святые Георгие, попущайте, государи, от поезду княжево всяково ведуна, и ведунии, и всяково чародея и тяпосника в чистое поле овцами горепашницами, а князя молодово, и со княгинею молодою, и с тысецким, и зь бояры, и со всеми поежаны отпущайте весь поезд в чистое поле волками серыми на те овцы“ [Великоустюжский сб. 2002. С. 220]. Этот заговор коррелирует с быличками и поверьями о превращении в волков участников свадебного поезда, однако такая метаморфоза в данном случае рисуется как желательная, а не вредоносная.
Звери-оборотни упоминаются и в недатированном пастушеском „отпуске“ из Олонецкого края: „А буде меня, раба Божия (имярек), кто станет портить и урочить всякой зверь, волк рыскучей и волчица, широколапой медведь, и медведица, и ни змей скорпий и всякой ехидной человек, злодейственной перехожей пакостник и обворотень, зверем подходя или гадиной ползущей станет, и всю мою животину, милой крестьянской живот станет кто портить, и Михайла архангел со всею небесною силою сойдет и разошлет на все 4 стороны...“ [Ребров 1886. С. 50‒51 (недатир. ркп.)].
Весьма вероятно, что и в нашем тексте отразились представления о волках-оборотнях, широко распространенные с эпохи Древней Руси до XVIII‒XIX вв. В то же время книжный характер текста и отсутствие ясности в вопросе о том, какой именно зверь имеется здесь в виду, мешают видеть в тексте прямое выражение народных поверий» [Топорков 2005. С. 76‒77].
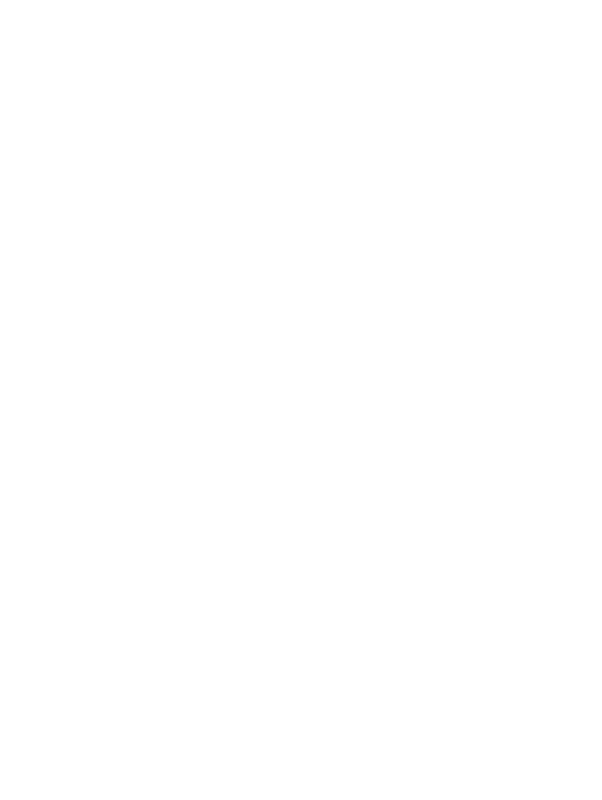
Рисунок мальчика Онфима на бересте с надписью «ѧ звѣре», XIII в., Новгород. Это один из самых ранних, из известных в настоящее время, детских рисунков, сохранившихся со времён древней Руси.
Однако, один из мальчишеских рисунков вызывает недоумение. Мы видим некое четвероногое существо с высунутым языком и загнутым кренделем хвостом. Рядом с четвероногим пояснение — „Я ЗВЕРЕ <зверь>“, свидетельствующее, что перед нами своего рода „автопортрет“.
Детские рисунки, при всей своей творческой самобытности, являются отражением окружающего мира. В рисунках детей школьного возраста (а таковым и был мальчик Онфим) преобладают социально-культурные реалии, среди которых живет юный рисовальщик. А потому рассматриваемый рисунок наталкивает нас на интереснейший вывод: оказывается, мальчик XIII века воспринимал оборотничество (превращение в зверя) как явление действительно существующее и даже допускал возможность собственного превращения. При этом, надо полагать, зверь не оценивался как существо отрицательное» [Громов 2002. С. 95‒96].
Сейчас мы, пожалуй, не можем с уверенностью утверждать, что Онфим имел в виду именно оборотничество, однако примем гипотезу Д.В. Громова на заметку.
Однако, один из мальчишеских рисунков вызывает недоумение. Мы видим некое четвероногое существо с высунутым языком и загнутым кренделем хвостом. Рядом с четвероногим пояснение — „Я ЗВЕРЕ <зверь>“, свидетельствующее, что перед нами своего рода „автопортрет“.
Детские рисунки, при всей своей творческой самобытности, являются отражением окружающего мира. В рисунках детей школьного возраста (а таковым и был мальчик Онфим) преобладают социально-культурные реалии, среди которых живет юный рисовальщик. А потому рассматриваемый рисунок наталкивает нас на интереснейший вывод: оказывается, мальчик XIII века воспринимал оборотничество (превращение в зверя) как явление действительно существующее и даже допускал возможность собственного превращения. При этом, надо полагать, зверь не оценивался как существо отрицательное» [Громов 2002. С. 95‒96].
Сейчас мы, пожалуй, не можем с уверенностью утверждать, что Онфим имел в виду именно оборотничество, однако примем гипотезу Д.В. Громова на заметку.
В некоторых случаях речь идёт об уподоблении не полном, а частичном (какой-либо одной частью тела): «И буди у меня, раба Божiя, <...> гортань моя, челюсь — звѣря волка порыскучаго» [Майков 1869. С. 147 (№ 338)].
Иногда читающий заговор не сам уподобляется зверю, а просит у высших сил дать ему (в качестве духа-помощника?) некоего «лютого зверя», который победит неприятеля: «Дай мнѣ, Господи, изъ чистаго поля лютаго звѣря; поди, лютой звѣрь, къ рабу Божiю (имя рекъ); въ водѣ подъ каменемъ выйми сердце съ горячею печенью, принеси мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ)» [Майков 1869. С. 155 (№ 351)]. И т.д.
Далее мы ещё не раз будем обращаться к заговорам, в которых фигурирует волк (или волки).
В некоторых случаях речь идёт об уподоблении не полном, а частичном (какой-либо одной частью тела): «И буди у меня, раба Божiя, <...> гортань моя, челюсь — звѣря волка порыскучаго» [Майков 1869. С. 147 (№ 338)].
Иногда читающий заговор не сам уподобляется зверю, а просит у высших сил дать ему (в качестве духа-помощника?) некоего «лютого зверя», который победит неприятеля: «Дай мнѣ, Господи, изъ чистаго поля лютаго звѣря; поди, лютой звѣрь, къ рабу Божiю (имя рекъ); въ водѣ подъ каменемъ выйми сердце съ горячею печенью, принеси мнѣ, рабу Божiю (имя рекъ)» [Майков 1869. С. 155 (№ 351)]. И т.д.
Далее мы ещё не раз будем обращаться к заговорам, в которых фигурирует волк (или волки).
А.С. Фаминцын, ссылаясь на труд Гедеонова [Гедеонов I 1876. С. 195‒196], приводит имена славянских князей и княжеских родов, среди которых фигурируют и «Волки»: «въ старину многiе Славянскiе вожди и князья, подобно цѣлымъ народамъ, назывались именами животныхъ (вѣроятно при такихъ наименованiяхъ имѣлось въ виду миѳологическое значенiе этихъ звѣрей), напр. братъ Рогволода назывался Туръ, въ Ипатьевской лѣтописи подъ 1208 г. упоминается Петръ Туровичъ. Другiе Славянскiе вожди называются Волками, имя Сокол встрѣчается между Чешскими дворянскими родами» и т.д. [Фаминцын 1884. С. 206].
С.А. Гедеонов в первом томе своего фундаментального исследования «Варяги и Русь» писал о полабо-балтийских славянах — лютичах, в частности, следующее: «Такъ и о Лутичахъ: „Leutici, qui alio nomine Wilzi dicuntur“ (Ad. Brem. с. 66). „Igitur cum multi sint Winulorum populi fortitudine celebres, soli quatuor sunt qui ab illis Wilzi, a nobis vero Leuticii dicuntur“ etc. (ibid. c. 140). „Luticii sive Wilzi“ (Helmold. I, XXI). Какъ Лутичи волками, такъ Оботриты прозывались соколами, въ слѣдствiе особаго уваженiя къ религiозному и символическому значенiю этихъ животныхъ, у той и у другой народности» [Гедеонов I 1876. С. 194].
В «Славянском именослове» М.Я. Морошкина читаем: «Волкъ (Влък). Церк. Слав. волкъ, Серб. вук, Слов. wlk, Лит. Руск. вовкъ, Венд. vouk, Болг. волкъ, Бог. wlk, Польс. wilk, Ниж. Луз. wölk, Влуз. wělk, Лит. wilkas, Латыш. wilks, Нѣм. Wolf, Греч. λυϰοσ, Лат. lupus, Готѳ. wulfs, Санкрит. вркас, отсюда древне и ново-болгарское врколакъ, вуркулакъ сохранило звукъ Санкрит. р, находящагося въ словѣ вркас. Какъ у Нѣмцевъ есть множество личныхъ именъ, происшедшихъ отъ слова Wolf, wulf, такъ и у Славянъ, особенно у Сербовъ и Болгаръ, имя волкъ есть самое общеупотребительнѣйшее между личными именами. Причиной такого обширнаго употребленiя его нужно полагать вѣрованiе въ особенную силу этого имени. Извѣстiе наконецъ, что именемъ волка называлось цѣлое Славянское племя Вильцевъ или Лютичей» [Морошкин 1867. С. 59‒60].
В предваряющем словарную часть книги общем рассмотрении славянских имён М.Я. Морошкин замечает, что имя «Волк/Вук» среди «животных» имён было у славян наиболее распространённым: «Наши предки вѣрили, что между именемъ и свойствами человѣка находится таинственная связь, по которой внутреннiя качества человѣка условливаются и опредѣляются именемъ его; а потому стоило только дать дитяти имя какого нибудь животнаго и предмета изъ видимой природы, какъ тотчасъ съ этимъ перейдутъ къ нарекаемому и всѣ тѣ свойства, какiя принадлежатъ извѣстному животному или предмету. Здѣсь, конечно, нужно искать объясненiя того явленiя, почему имя такого, а не другаго животнаго, или предмета обращалось въ личное имя у Славянъ. Причина этаго заключалась въ особомъ воззрѣнiи Славянъ на извѣстныхъ животныхъ и на извѣстные предметы природы, по которому они находили нужнымъ уподобляться свойствамъ тѣхъ, а не другихъ, животныхъ или предметовъ. Изъ животныхъ Славяне любили употреблять, кромѣ общаго названiя звѣря, имена: Туръ, Быкъ, Кобыла, Волкъ, Собака, Оселъ, Заяцъ, Конь и т. под. Но самое употребительнѣйшее изъ этихъ именъ у Славянъ, особенно Сербовъ и Болгаръ, было имя Волка. Извѣстно, что Сербы и Болгары даютъ этому имени какую-то особенную таинственную силу: родители, когда у нихъ не стоятъ, т.е. не живутъ дѣти, обыкновенно даютъ его оставшемуся въ живыхъ, или родившемуся послѣ смерти другихъ дѣтей, своему младенцу, и тѣмъ какъ бы застраховываютъ его отъ смерти. Караджичь [имеется в виду выдающийся сербский этнограф, лингвист и педагог Вук Стефанович Караджич (серб. Вук Стефановић Караџић; 1787—1864), — прим. В.] разсказываетъ о себѣ, что у его родителей до рожденiя его много было дѣтей, но всѣ они умирали; когда родился (у нихъ) онъ, тогда они дали ему имя Вука, чтобы его сохранить въ живыхъ и вырвать у смерти — и чтоже? Изъ всѣхъ дѣтей остался у его родителей въ живыхъ только онъ съ своимъ таинственнымъ именемъ, какъ бы въ оправданiе и подтвержденiе народнаго вѣрованiя въ могущественную и таинственную силу этого имени» [Морошкин 1867. С. 45‒47].
Современный исследователь А.Б. Мороз подтверждает сказанное М.Я. Морошкиным: «В сербохорватском ареале в семьях, где дети часто умирают, чтобы избежать этого, новорожденным даются имена, содержащие корень вук-: Вук, Вукашин, Вукац, Вукман (Вукоман), Вукмиљ, Вуковоје, Вукша, Вукота, Вукосав, Вуксан, Вукач, Вукоје, Вукас, Вучина, Вуле, Вулета, Вучко, Вукмир, Вуча, Вујо (Вујко), Вучан (Вучен), Вучан (Вујак), Вујица и т.д.» [Мороз 2000. С. 83].
Н.М. Тупиков в «Словаре древнерусских личных собственных имён» перечисляет без малого полсотни «Волков» разных сословий, чьи имена фигурируют в исторических документах: «Волкъ. Волкъ Ухтомскій, въ Москвѣ. 1483. Ак. Юр. 440. Иванъ Волкъ Борисовъ, въ Москвѣ. 1483. Ак. Юр. 440. Иванъ Волкъ Курицынъ, дьякъ Московскій. 1492. Лѣтоп. VIII, 224. Ѳедотко Волкъ; крестьянинъ Сытинскаго погоста. 1495. Писц. II, 474. Бориско Волкъ, крестьянинъ волости Велили. 1495. Писц. II, 756. Приимковъ, князь Дмитрій Приимковъ, да его дѣти Дмитрей, да Иванъ Волкъ, да Балыматъ, помѣщики въ Городенскомъ погостѣ. 1495. Писц. I, 251. Дмитрокъ Волкъ, крестьянинъ Локоцкаго погоста. 1495. Писц. II, 92. Левко Волкъ, крестьянинъ Оксочскаго погоста. 1495. Писц. II, 321. Куземко Волкъ, крестьянинъ Михайловскаго погоста. 1495. Писц. I, 205. Оѳонаско Волкъ, крестьянинъ Сеглинскаго погоста. 1495. Писц. I, 476. Степка Волкъ, крестьянинъ Семеновскаго погоста. 1495. Писц. I, 785. Васко Волкъ, крестьянинъ Дятелинскаго погоста. 1500. Писц. III, 617. Ѳедко Волкъ, крестьянинъ Каргальскаго погоста. 1500; Писц. III, 499. Панъ Волкъ Гавсовичъ. XIV в. зап. Ю. З. A. II, 103. Опонасъ Волкъ, рядовой въ ротѣ Филона Кмиты. зап. 1567. Арх. Сб. IV, 215. „Тимоѳей Петровъ мясникъ, прозвище Волкъ“, Новгородскій пятиконецкій староста. 1585. Ак. Юр. 225. Захаръ Волкъ, Витебскій мѣщанинъ. 1597. К. Л. 233. Панъ Максимъ Волкъ, землевладѣлецъ. зап. 1631. Арх. Сб. III, 171. Волкъ, въ Пинскѣ, 1633, господарскій подданный. Ю. З. A. II, 85. Панъ Янъ Сергѣевичъ Волкъ, Полоцкій райца. Арх. Сб. I, 327. Ермолка Волкъ Ѳедковъ, своеземецъ гор. Яма. 1500. Писц. III, 882. „Волкъ ключникъ“, холопъ въ Новгородской области. 1500. Писц. III, 686. „Волкъ Конюхъ“, землевладѣлецъ. 1504. с. в. Гр. и Дог. I, 361. Волкъ Збоевъ, землевладѣлецъ. 1504. с. в. Гр. и Дог. I, 363. Волкъ, дьякъ церковный, въ Ефремовскомъ погостѣ. 1539. Писц. IV, 349. Князь Василій княжъ Васильевъ сынъ Волкъ Ростовскій, Московскій бояринъ. 1562. Гр. и Дог. I, 478. Гридя Волкъ Онфимовъ сынъ, Костенскаго села сотникъ. 1542. с. в. А. Ѳ. I, 74. Ѳесько Волкъ, Запорожскій войсковой эсаулъ. 1658. Ю. З. A. IV, 147. Волкъ, эсаулъ въ войскѣ Запорожскомъ. 1658. Ю. З. A. VII, 269. Петрушка Артемьевъ — Волкъ, крестьянинъ Шунскаго погоста. 1671. сѣв.-вост. А. K. II, 209. Іосифъ Волкъ, казакъ запорожскій. 1737. К. Л. 65. „Панъ Волчко пана Ходьковъ сыновець, Лоевичь“, помѣщикъ въ Червонной Руси. 1393. Ю. З. A. I, 2. Волчко, свидѣтель. юг.-зап. 1418. A. S. I, 25. Волчко Кляпиничь, панъ, отчинникъ Слуцкій. ок. 1450. Ю. З. A. I, 296. Волчъ, крестьянинъ въ княжествѣ Литовскомъ. 1455. Арх. Сб. VII, 3. Панъ Волчко Князьскій. юг.-зап. 1470. A. S. I, 65. Волчко Шепелевичъ, городничій Минскій. 1516. Ю. З. A. I, 48. Панъ Станиславъ Волчко, въ Литовскомъ княжествѣ. 1546, Арх. Сб. I, 97. Вовчокъ Ляшковъ сынъ, Винницкій мѣщанинъ. 1552. Арх. VII, 1, 607. Иванъ Волкъ, Каменецкій крестьянинъ. 1565. Арх. VII, 2, 200. Панъ Мартинъ Вовчко, ловчій Холмскій. 1583. Арх. Сб. IV, 254. Ивашко Волкъ Пищулинъ, Углицкій дворцовый сытникъ. 1591. Гр. и Дог. II, 118. Симонъ Волчокъ, Супрасльскій крестьянинъ. 1645. Арх. Сб. ІХ, 208. Васко Романовичъ и Тимонъ Ивановичъ Волчки, бояре въ Новгородской области. 1597. Арх. Сб. 1, 202. Грицко Волкъ, крестьянинъ, 1619, зап. Арх. VI, 1, 401. Левонъ Григорьевича Волкъ, бояринъ Гомельскаго староства. зап. 1640. З. A. V, 51. Семенъ Волкъ, крестьянинъ Овручскій. 1683. Арх. VI. 1, 153 (пр.)» [Тупиков 1903. С. 90‒92].
Также в словаре Н.М. Тупикова зафиксированы:
«Волченецъ. Наумко Волченець, стрѣлецкій голова, близъ Литовской границы. 1634. А. М. Г. I, 560.
Волчій Зубъ. Шипошикъ Волчого Зуба сынъ, крестьянинъ. зап. 1650. Арх. VI, 1, 565.
Волчій Хвостъ. Волчій Хвостъ, воевода Владимира Св. 984. Лавр. лѣтоп. 82.
Волчко. См. Волкъ» [Тупиков 1903. С. 93].
В «Ономастиконе» академика С.Б. Веселовского находим следующие русские имена, прозвища и фамилии: Белый Волк (кон. XV в.), Волк (пер. пол. XV в.), Волковы (фамилия известна с конца XV в.) и даже Волченок Слепой (1503) [Веселовский 1974. С. 70, 71, 132]. Также упоминается крестьянин Гаврила Бирюк (1627) [Веселовский 1974. С. 39].
Бирюк (=волк), как считается, происходит от тюрк. борю — «волк-одиночка», которое, в свою очередь, восходит к др.-иран. bairaka — «ужасный, страшный» [Свиридова 2014. С. 41].
С волками связано также название города в Белоруссии: «ВОЛКОВЫСК, Волковыескъ — город в Верхнем Понеманье, ныне — райцентр (Гродненская обл., Беларусь). Впервые упомянут в Ипатьевской летописи в связи с вторжением Даниила Романовича и Василька Романовича галицких в принадлежавшее Литве Верхнее Понеманье в 1252 [г.]. Во вт. пол. 13 в. В[олковыск] не раз переходил от литовских князей к галицко-волынским и обратно» [Алексеев 2017. С. 147]. И т.д.
А.С. Фаминцын, ссылаясь на труд Гедеонова [Гедеонов I 1876. С. 195‒196], приводит имена славянских князей и княжеских родов, среди которых фигурируют и «Волки»: «въ старину многiе Славянскiе вожди и князья, подобно цѣлымъ народамъ, назывались именами животныхъ (вѣроятно при такихъ наименованiяхъ имѣлось въ виду миѳологическое значенiе этихъ звѣрей), напр. братъ Рогволода назывался Туръ, въ Ипатьевской лѣтописи подъ 1208 г. упоминается Петръ Туровичъ. Другiе Славянскiе вожди называются Волками, имя Сокол встрѣчается между Чешскими дворянскими родами» и т.д. [Фаминцын 1884. С. 206].
С.А. Гедеонов в первом томе своего фундаментального исследования «Варяги и Русь» писал о полабо-балтийских славянах — лютичах, в частности, следующее: «Такъ и о Лутичахъ: „Leutici, qui alio nomine Wilzi dicuntur“ (Ad. Brem. с. 66). „Igitur cum multi sint Winulorum populi fortitudine celebres, soli quatuor sunt qui ab illis Wilzi, a nobis vero Leuticii dicuntur“ etc. (ibid. c. 140). „Luticii sive Wilzi“ (Helmold. I, XXI). Какъ Лутичи волками, такъ Оботриты прозывались соколами, въ слѣдствiе особаго уваженiя къ религiозному и символическому значенiю этихъ животныхъ, у той и у другой народности» [Гедеонов I 1876. С. 194].
В «Славянском именослове» М.Я. Морошкина читаем: «Волкъ (Влък). Церк. Слав. волкъ, Серб. вук, Слов. wlk, Лит. Руск. вовкъ, Венд. vouk, Болг. волкъ, Бог. wlk, Польс. wilk, Ниж. Луз. wölk, Влуз. wělk, Лит. wilkas, Латыш. wilks, Нѣм. Wolf, Греч. λυϰοσ, Лат. lupus, Готѳ. wulfs, Санкрит. вркас, отсюда древне и ново-болгарское врколакъ, вуркулакъ сохранило звукъ Санкрит. р, находящагося въ словѣ вркас. Какъ у Нѣмцевъ есть множество личныхъ именъ, происшедшихъ отъ слова Wolf, wulf, такъ и у Славянъ, особенно у Сербовъ и Болгаръ, имя волкъ есть самое общеупотребительнѣйшее между личными именами. Причиной такого обширнаго употребленiя его нужно полагать вѣрованiе въ особенную силу этого имени. Извѣстiе наконецъ, что именемъ волка называлось цѣлое Славянское племя Вильцевъ или Лютичей» [Морошкин 1867. С. 59‒60].
В предваряющем словарную часть книги общем рассмотрении славянских имён М.Я. Морошкин замечает, что имя «Волк/Вук» среди «животных» имён было у славян наиболее распространённым: «Наши предки вѣрили, что между именемъ и свойствами человѣка находится таинственная связь, по которой внутреннiя качества человѣка условливаются и опредѣляются именемъ его; а потому стоило только дать дитяти имя какого нибудь животнаго и предмета изъ видимой природы, какъ тотчасъ съ этимъ перейдутъ къ нарекаемому и всѣ тѣ свойства, какiя принадлежатъ извѣстному животному или предмету. Здѣсь, конечно, нужно искать объясненiя того явленiя, почему имя такого, а не другаго животнаго, или предмета обращалось въ личное имя у Славянъ. Причина этаго заключалась въ особомъ воззрѣнiи Славянъ на извѣстныхъ животныхъ и на извѣстные предметы природы, по которому они находили нужнымъ уподобляться свойствамъ тѣхъ, а не другихъ, животныхъ или предметовъ. Изъ животныхъ Славяне любили употреблять, кромѣ общаго названiя звѣря, имена: Туръ, Быкъ, Кобыла, Волкъ, Собака, Оселъ, Заяцъ, Конь и т. под. Но самое употребительнѣйшее изъ этихъ именъ у Славянъ, особенно Сербовъ и Болгаръ, было имя Волка. Извѣстно, что Сербы и Болгары даютъ этому имени какую-то особенную таинственную силу: родители, когда у нихъ не стоятъ, т.е. не живутъ дѣти, обыкновенно даютъ его оставшемуся въ живыхъ, или родившемуся послѣ смерти другихъ дѣтей, своему младенцу, и тѣмъ какъ бы застраховываютъ его отъ смерти. Караджичь [имеется в виду выдающийся сербский этнограф, лингвист и педагог Вук Стефанович Караджич (серб. Вук Стефановић Караџић; 1787—1864), — прим. В.] разсказываетъ о себѣ, что у его родителей до рожденiя его много было дѣтей, но всѣ они умирали; когда родился (у нихъ) онъ, тогда они дали ему имя Вука, чтобы его сохранить въ живыхъ и вырвать у смерти — и чтоже? Изъ всѣхъ дѣтей остался у его родителей въ живыхъ только онъ съ своимъ таинственнымъ именемъ, какъ бы въ оправданiе и подтвержденiе народнаго вѣрованiя въ могущественную и таинственную силу этого имени» [Морошкин 1867. С. 45‒47].
Современный исследователь А.Б. Мороз подтверждает сказанное М.Я. Морошкиным: «В сербохорватском ареале в семьях, где дети часто умирают, чтобы избежать этого, новорожденным даются имена, содержащие корень вук-: Вук, Вукашин, Вукац, Вукман (Вукоман), Вукмиљ, Вуковоје, Вукша, Вукота, Вукосав, Вуксан, Вукач, Вукоје, Вукас, Вучина, Вуле, Вулета, Вучко, Вукмир, Вуча, Вујо (Вујко), Вучан (Вучен), Вучан (Вујак), Вујица и т.д.» [Мороз 2000. С. 83].
Н.М. Тупиков в «Словаре древнерусских личных собственных имён» перечисляет без малого полсотни «Волков» разных сословий, чьи имена фигурируют в исторических документах: «Волкъ. Волкъ Ухтомскій, въ Москвѣ. 1483. Ак. Юр. 440. Иванъ Волкъ Борисовъ, въ Москвѣ. 1483. Ак. Юр. 440. Иванъ Волкъ Курицынъ, дьякъ Московскій. 1492. Лѣтоп. VIII, 224. Ѳедотко Волкъ; крестьянинъ Сытинскаго погоста. 1495. Писц. II, 474. Бориско Волкъ, крестьянинъ волости Велили. 1495. Писц. II, 756. Приимковъ, князь Дмитрій Приимковъ, да его дѣти Дмитрей, да Иванъ Волкъ, да Балыматъ, помѣщики въ Городенскомъ погостѣ. 1495. Писц. I, 251. Дмитрокъ Волкъ, крестьянинъ Локоцкаго погоста. 1495. Писц. II, 92. Левко Волкъ, крестьянинъ Оксочскаго погоста. 1495. Писц. II, 321. Куземко Волкъ, крестьянинъ Михайловскаго погоста. 1495. Писц. I, 205. Оѳонаско Волкъ, крестьянинъ Сеглинскаго погоста. 1495. Писц. I, 476. Степка Волкъ, крестьянинъ Семеновскаго погоста. 1495. Писц. I, 785. Васко Волкъ, крестьянинъ Дятелинскаго погоста. 1500. Писц. III, 617. Ѳедко Волкъ, крестьянинъ Каргальскаго погоста. 1500; Писц. III, 499. Панъ Волкъ Гавсовичъ. XIV в. зап. Ю. З. A. II, 103. Опонасъ Волкъ, рядовой въ ротѣ Филона Кмиты. зап. 1567. Арх. Сб. IV, 215. „Тимоѳей Петровъ мясникъ, прозвище Волкъ“, Новгородскій пятиконецкій староста. 1585. Ак. Юр. 225. Захаръ Волкъ, Витебскій мѣщанинъ. 1597. К. Л. 233. Панъ Максимъ Волкъ, землевладѣлецъ. зап. 1631. Арх. Сб. III, 171. Волкъ, въ Пинскѣ, 1633, господарскій подданный. Ю. З. A. II, 85. Панъ Янъ Сергѣевичъ Волкъ, Полоцкій райца. Арх. Сб. I, 327. Ермолка Волкъ Ѳедковъ, своеземецъ гор. Яма. 1500. Писц. III, 882. „Волкъ ключникъ“, холопъ въ Новгородской области. 1500. Писц. III, 686. „Волкъ Конюхъ“, землевладѣлецъ. 1504. с. в. Гр. и Дог. I, 361. Волкъ Збоевъ, землевладѣлецъ. 1504. с. в. Гр. и Дог. I, 363. Волкъ, дьякъ церковный, въ Ефремовскомъ погостѣ. 1539. Писц. IV, 349. Князь Василій княжъ Васильевъ сынъ Волкъ Ростовскій, Московскій бояринъ. 1562. Гр. и Дог. I, 478. Гридя Волкъ Онфимовъ сынъ, Костенскаго села сотникъ. 1542. с. в. А. Ѳ. I, 74. Ѳесько Волкъ, Запорожскій войсковой эсаулъ. 1658. Ю. З. A. IV, 147. Волкъ, эсаулъ въ войскѣ Запорожскомъ. 1658. Ю. З. A. VII, 269. Петрушка Артемьевъ — Волкъ, крестьянинъ Шунскаго погоста. 1671. сѣв.-вост. А. K. II, 209. Іосифъ Волкъ, казакъ запорожскій. 1737. К. Л. 65. „Панъ Волчко пана Ходьковъ сыновець, Лоевичь“, помѣщикъ въ Червонной Руси. 1393. Ю. З. A. I, 2. Волчко, свидѣтель. юг.-зап. 1418. A. S. I, 25. Волчко Кляпиничь, панъ, отчинникъ Слуцкій. ок. 1450. Ю. З. A. I, 296. Волчъ, крестьянинъ въ княжествѣ Литовскомъ. 1455. Арх. Сб. VII, 3. Панъ Волчко Князьскій. юг.-зап. 1470. A. S. I, 65. Волчко Шепелевичъ, городничій Минскій. 1516. Ю. З. A. I, 48. Панъ Станиславъ Волчко, въ Литовскомъ княжествѣ. 1546, Арх. Сб. I, 97. Вовчокъ Ляшковъ сынъ, Винницкій мѣщанинъ. 1552. Арх. VII, 1, 607. Иванъ Волкъ, Каменецкій крестьянинъ. 1565. Арх. VII, 2, 200. Панъ Мартинъ Вовчко, ловчій Холмскій. 1583. Арх. Сб. IV, 254. Ивашко Волкъ Пищулинъ, Углицкій дворцовый сытникъ. 1591. Гр. и Дог. II, 118. Симонъ Волчокъ, Супрасльскій крестьянинъ. 1645. Арх. Сб. ІХ, 208. Васко Романовичъ и Тимонъ Ивановичъ Волчки, бояре въ Новгородской области. 1597. Арх. Сб. 1, 202. Грицко Волкъ, крестьянинъ, 1619, зап. Арх. VI, 1, 401. Левонъ Григорьевича Волкъ, бояринъ Гомельскаго староства. зап. 1640. З. A. V, 51. Семенъ Волкъ, крестьянинъ Овручскій. 1683. Арх. VI. 1, 153 (пр.)» [Тупиков 1903. С. 90‒92].
Также в словаре Н.М. Тупикова зафиксированы:
«Волченецъ. Наумко Волченець, стрѣлецкій голова, близъ Литовской границы. 1634. А. М. Г. I, 560.
Волчій Зубъ. Шипошикъ Волчого Зуба сынъ, крестьянинъ. зап. 1650. Арх. VI, 1, 565.
Волчій Хвостъ. Волчій Хвостъ, воевода Владимира Св. 984. Лавр. лѣтоп. 82.
Волчко. См. Волкъ» [Тупиков 1903. С. 93].
В «Ономастиконе» академика С.Б. Веселовского находим следующие русские имена, прозвища и фамилии: Белый Волк (кон. XV в.), Волк (пер. пол. XV в.), Волковы (фамилия известна с конца XV в.) и даже Волченок Слепой (1503) [Веселовский 1974. С. 70, 71, 132]. Также упоминается крестьянин Гаврила Бирюк (1627) [Веселовский 1974. С. 39].
Бирюк (=волк), как считается, происходит от тюрк. борю — «волк-одиночка», которое, в свою очередь, восходит к др.-иран. bairaka — «ужасный, страшный» [Свиридова 2014. С. 41].
С волками связано также название города в Белоруссии: «ВОЛКОВЫСК, Волковыескъ — город в Верхнем Понеманье, ныне — райцентр (Гродненская обл., Беларусь). Впервые упомянут в Ипатьевской летописи в связи с вторжением Даниила Романовича и Василька Романовича галицких в принадлежавшее Литве Верхнее Понеманье в 1252 [г.]. Во вт. пол. 13 в. В[олковыск] не раз переходил от литовских князей к галицко-волынским и обратно» [Алексеев 2017. С. 147]. И т.д.
Первое письменное свидетельство о захоронении собак в Западной Сибири относится к концу XVII в. Очевидцем этого обряда был участник русского посольства в Китай Бранд Адам. „Следующий случай может показаться глупым, — писал он в своих путевых заметках, — но мы сами были его свидетелями. У вогулов сдохла собака, по виду напоминающая английского дога. Тотчас же поднялись крики и причитания; один оплакивал одно достоинство собаки, другой — другое, каких, по их уверениям, не встретить ни у кого. После того они похоронили ее, как хоронят людей: положили ей под голову вместо подушки отесанный кусок дерева и на ее могиле построили отдельный домик, чтобы показать, как высоко они ценили эту собаку при жизни за ее великие достоинства и за верную службу. У здешнего народа существует древний обычай чтить такими похоронами пса, приносившего пользу“.
У манси до недавнего времени были специальные собачьи кладбища. Одно из них находилось недалеко от мансийского селения Щекурья. Умерших собак там помещали в отдельную яму, закрывая последнюю пластами дерна. Вообще обские угры в зависимости от местности и некоторых обстоятельств хоронили собак по крайней мере тремя способами: в ямах, в наземных срубах и на земле под кучей хвороста. Ваховские ханты перед погребением собачьего тела украшали его: привязывали на одну переднюю лапу красную ленту, на другую — черную. Бить и обижать собаку считалось грехом. Путешественники XVIII‒XIX столетий с удивлением отмечали, что остяки заботятся о собаках больше, чем о собственных женах: кладут их с собою спать, стелят им оленьи шкуры, варят хорошую еду.
Почтительное отношение к собаке видим и в других районах Сибири. У бурят она была обязательной участницей всех семейных праздников. Во время свадьбы, повязывая гостям платок или ленту, ей надевали на шею красный суконный ошейник. По бурятским преданиям собаку наряду с домашним скотом приносили прежде в жертву богам.
Среди дошедших до нас древних изображений животных собака почему-то встречается редко. Зато бронзовые фигурки волка [выделение наше, — прим. В.], начиная с железного века, довольно многочисленны. Не исключено, что некоторые из них не волки, а собаки, тем более что видовые признаки этих двух животных весьма близки и в схематической передаче древних скульпторов их легко спутать даже специалисту-кинологу. Из известных изображений собаки наиболее выразительна бронзовая фигурка из Кривошеинского клада в Нарымском Приобье.
Собака издревле была жертвенным животным. В Васюганье на поселении Тух-Эмтор (бронзовый век) скелет собаки найден в жилищной пристройке вместе с древесным углем, бронзовым кинжалом и обломком глиняного сосуда с изображением хищной птицы. Жилище принадлежало мастеру-бронзолитейщику, и можно предполагать, что собака была принесена в жертву при ритуальном действии, связанном с производством бронзовых изделий. На городище периода поздней бронзы Чудская Гора (Омская обл.) обнаружена жертвенная площадка, где с остатками человека лежали кости и черепа собак. На городище Усть-Полуй в низовьях Оби (железный век) находилась груда собачьих черепов не менее чем от 15 особей.
Обычай принесения в жертву собак наблюдался в Сибири и в новое время. Чтобы не утонуть, северные самоеды, отправляясь в путь на лодке, бросали в воду задушенную собаку. Нганасаны, молясь о ниспослании благ, жертвовали собак матерям природы: Земле-Матери удавленную собаку оставляли на земле, Воде-Матери — топили в реке, Тайге-Матери — вешали на дерево. Есть сведения, что сидячие коряки помимо обычных имели в прошлом особых „жертвенных“ собак.
В.И. Мошинская и Н.В. Лукина считают, что предки обских угров могли приносить собаку в жертву „за душу“, как некий эквивалент человеческой души, похищенной духами болезни и смерти. Если это мнение правильно, то не исключено, что некоторые из выявленных археологически захоронений и жертвоприношений собаки есть не что иное, как „выкуп“, принесенный людьми в надежде возвратить „украденную“ злыми силами душу своего сородича.
В целом почитание собаки у обских угров носило сложный и противоречивый характер. С одной стороны, она приравнивалась к чистым животным — лошади, лосю. Так, у манси было мифологическое существо Иэльсэль, собакой у которого служил лось. Они верили, что старая собака, как и старый лось, способна превратиться в мамонта и уйти жить под землю; верный признак предстоящего превращения — собака начинала есть землю. Манси и ханты при обтяжке бубна наряду с лосиной и конской использовали также собачью шкуру.
С другой стороны, собака связана с миром мертвых. Эпидемии, по мансийским поверьям, часто приходят в виде черной собаки. Болезнь и смерть человека, считали манси, являлись обычно делом собакоподобных демонов, живущих в Нижнем Мире. В архиве В.Н. Чернецова есть такая запись: „Собака (у манси) — злой дух. Она приносит болезни, не подвластные шаманам. Человек кормит, ласкает собаку, поэтому дух теряет власть над ней“. Обские угры при похоронах не использовали собак как тягловую силу, даже в тех местах, где собаки были основным транспортным средством.
Так же неоднозначно относились к собаке и другие сибирские народы. Буряты были уверены, что „есть худые собаки, которые постоянным лаем приглашают злых духов; особенно та собака худая, которая лает и воет по-волчьи [выделение наше, — прим. В.], смотря на северо-восток; она призывает оттуда злых духов; буряты убивают таких собак; если же убить считают грехом, то отдают русским или нанимают кого-нибудь убить. Вообще убить собаку большой грех; кто убьет собаку, тот при совершении религиозных обрядов не должен держать ″сасами″, т.е. он считается нечистым“.
Наряду со столь сложными и противоречивыми свойствами, характеризующими ее сверхъестественные возможности, собака наделялась и многими человеческими качествами. Как уже говорилось выше, душа собаки при определенных обстоятельствах приравнивалась к душе человека, и вообще считалось, что собака была когда-то человеком, например у ваховских хантов. Последние, если не было найдено тело утонувшего или замерзшего, хоронили его собаку, соответственно полу погибшего. В некоторых обско-угорских обрядах кровь человека заменяли кровью собаки. У восточных хантов част такой сказочный сюжет: с богатыря сняли скальп, но он не умер, так как натянул на оголенный череп собачью шкуру. Считалось, что собаки обладают шаманским даром: могут видеть злых духов, способны предвидеть. По мнению кондинских манси, чтобы стать провидцем, надо часто смотреть между ушей черной собаки.
У собаки, судя по материалам обско-угорской этнографии, была еще одна почетная, „человеческая“ привилегия. Манси прежде нередко помогали старым больным псам перебраться в мир иной путем „почетного“ удушения специальной удавкой. В этой связи приходит на память старинный обычай „почетного“ убийства стариков, доживший у ряда сибирских народов до этнографической современности. Во всем этом видится дань высокого уважения к собаке — древнейшему другу и помощнику людей. В этом уважении вряд ли стоит, как это иногда делается, искать проявления тотемического культа. Образ собаки, как он понимался сибирскими аборигенами, не имел ничего общего с образом тотемного предка» [Косарев 1991. С. 143‒146].
Первое письменное свидетельство о захоронении собак в Западной Сибири относится к концу XVII в. Очевидцем этого обряда был участник русского посольства в Китай Бранд Адам. „Следующий случай может показаться глупым, — писал он в своих путевых заметках, — но мы сами были его свидетелями. У вогулов сдохла собака, по виду напоминающая английского дога. Тотчас же поднялись крики и причитания; один оплакивал одно достоинство собаки, другой — другое, каких, по их уверениям, не встретить ни у кого. После того они похоронили ее, как хоронят людей: положили ей под голову вместо подушки отесанный кусок дерева и на ее могиле построили отдельный домик, чтобы показать, как высоко они ценили эту собаку при жизни за ее великие достоинства и за верную службу. У здешнего народа существует древний обычай чтить такими похоронами пса, приносившего пользу“.
У манси до недавнего времени были специальные собачьи кладбища. Одно из них находилось недалеко от мансийского селения Щекурья. Умерших собак там помещали в отдельную яму, закрывая последнюю пластами дерна. Вообще обские угры в зависимости от местности и некоторых обстоятельств хоронили собак по крайней мере тремя способами: в ямах, в наземных срубах и на земле под кучей хвороста. Ваховские ханты перед погребением собачьего тела украшали его: привязывали на одну переднюю лапу красную ленту, на другую — черную. Бить и обижать собаку считалось грехом. Путешественники XVIII‒XIX столетий с удивлением отмечали, что остяки заботятся о собаках больше, чем о собственных женах: кладут их с собою спать, стелят им оленьи шкуры, варят хорошую еду.
Почтительное отношение к собаке видим и в других районах Сибири. У бурят она была обязательной участницей всех семейных праздников. Во время свадьбы, повязывая гостям платок или ленту, ей надевали на шею красный суконный ошейник. По бурятским преданиям собаку наряду с домашним скотом приносили прежде в жертву богам.
Среди дошедших до нас древних изображений животных собака почему-то встречается редко. Зато бронзовые фигурки волка [выделение наше, — прим. В.], начиная с железного века, довольно многочисленны. Не исключено, что некоторые из них не волки, а собаки, тем более что видовые признаки этих двух животных весьма близки и в схематической передаче древних скульпторов их легко спутать даже специалисту-кинологу. Из известных изображений собаки наиболее выразительна бронзовая фигурка из Кривошеинского клада в Нарымском Приобье.
Собака издревле была жертвенным животным. В Васюганье на поселении Тух-Эмтор (бронзовый век) скелет собаки найден в жилищной пристройке вместе с древесным углем, бронзовым кинжалом и обломком глиняного сосуда с изображением хищной птицы. Жилище принадлежало мастеру-бронзолитейщику, и можно предполагать, что собака была принесена в жертву при ритуальном действии, связанном с производством бронзовых изделий. На городище периода поздней бронзы Чудская Гора (Омская обл.) обнаружена жертвенная площадка, где с остатками человека лежали кости и черепа собак. На городище Усть-Полуй в низовьях Оби (железный век) находилась груда собачьих черепов не менее чем от 15 особей.
Обычай принесения в жертву собак наблюдался в Сибири и в новое время. Чтобы не утонуть, северные самоеды, отправляясь в путь на лодке, бросали в воду задушенную собаку. Нганасаны, молясь о ниспослании благ, жертвовали собак матерям природы: Земле-Матери удавленную собаку оставляли на земле, Воде-Матери — топили в реке, Тайге-Матери — вешали на дерево. Есть сведения, что сидячие коряки помимо обычных имели в прошлом особых „жертвенных“ собак.
В.И. Мошинская и Н.В. Лукина считают, что предки обских угров могли приносить собаку в жертву „за душу“, как некий эквивалент человеческой души, похищенной духами болезни и смерти. Если это мнение правильно, то не исключено, что некоторые из выявленных археологически захоронений и жертвоприношений собаки есть не что иное, как „выкуп“, принесенный людьми в надежде возвратить „украденную“ злыми силами душу своего сородича.
В целом почитание собаки у обских угров носило сложный и противоречивый характер. С одной стороны, она приравнивалась к чистым животным — лошади, лосю. Так, у манси было мифологическое существо Иэльсэль, собакой у которого служил лось. Они верили, что старая собака, как и старый лось, способна превратиться в мамонта и уйти жить под землю; верный признак предстоящего превращения — собака начинала есть землю. Манси и ханты при обтяжке бубна наряду с лосиной и конской использовали также собачью шкуру.
С другой стороны, собака связана с миром мертвых. Эпидемии, по мансийским поверьям, часто приходят в виде черной собаки. Болезнь и смерть человека, считали манси, являлись обычно делом собакоподобных демонов, живущих в Нижнем Мире. В архиве В.Н. Чернецова есть такая запись: „Собака (у манси) — злой дух. Она приносит болезни, не подвластные шаманам. Человек кормит, ласкает собаку, поэтому дух теряет власть над ней“. Обские угры при похоронах не использовали собак как тягловую силу, даже в тех местах, где собаки были основным транспортным средством.
Так же неоднозначно относились к собаке и другие сибирские народы. Буряты были уверены, что „есть худые собаки, которые постоянным лаем приглашают злых духов; особенно та собака худая, которая лает и воет по-волчьи [выделение наше, — прим. В.], смотря на северо-восток; она призывает оттуда злых духов; буряты убивают таких собак; если же убить считают грехом, то отдают русским или нанимают кого-нибудь убить. Вообще убить собаку большой грех; кто убьет собаку, тот при совершении религиозных обрядов не должен держать ″сасами″, т.е. он считается нечистым“.
Наряду со столь сложными и противоречивыми свойствами, характеризующими ее сверхъестественные возможности, собака наделялась и многими человеческими качествами. Как уже говорилось выше, душа собаки при определенных обстоятельствах приравнивалась к душе человека, и вообще считалось, что собака была когда-то человеком, например у ваховских хантов. Последние, если не было найдено тело утонувшего или замерзшего, хоронили его собаку, соответственно полу погибшего. В некоторых обско-угорских обрядах кровь человека заменяли кровью собаки. У восточных хантов част такой сказочный сюжет: с богатыря сняли скальп, но он не умер, так как натянул на оголенный череп собачью шкуру. Считалось, что собаки обладают шаманским даром: могут видеть злых духов, способны предвидеть. По мнению кондинских манси, чтобы стать провидцем, надо часто смотреть между ушей черной собаки.
У собаки, судя по материалам обско-угорской этнографии, была еще одна почетная, „человеческая“ привилегия. Манси прежде нередко помогали старым больным псам перебраться в мир иной путем „почетного“ удушения специальной удавкой. В этой связи приходит на память старинный обычай „почетного“ убийства стариков, доживший у ряда сибирских народов до этнографической современности. Во всем этом видится дань высокого уважения к собаке — древнейшему другу и помощнику людей. В этом уважении вряд ли стоит, как это иногда делается, искать проявления тотемического культа. Образ собаки, как он понимался сибирскими аборигенами, не имел ничего общего с образом тотемного предка» [Косарев 1991. С. 143‒146].
Ю.В. Кривошеев писал: «Тотемизм — это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида животных. <...>
Вопрос о тотемистическом культе у восточных славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся с трансформацией тотемизма в культ предков в образе животных. Отголоски „звериных“ культов прослеживаются в ранних церковных поучениях. В <...> „Хождении Богородицы по мукам“ сообщается, что славяне „богы прозваша“ зверей („тварей“). Отцы церкви неистовствовали, когда новообращенные христиане продолжали соблюдать „бесовские“ обряды, при которых их участники „надевали на себя звериные шкуры“, плясали, скакали и пели „бесовские“ песни. Тотемистические игры в медведя („комоедица“) сохранились в белоруской деревне до второй половины XIX в. Здесь, видимо, можно усмотреть пережиток ритуальных плясок на празднике тотема, который известен и изучен у народов Крайнего Севера и многих других. <...>
Зачастую в сказках животных называют лисичка-сестричка, волк-братик, медведь-дедушка. Это в определенной мере свидетельствует о представлении о кровно родственных связях человека и животных. <...> Глубоко архаические воззрения о родстве человека и животных донесла до нас сказка „Медведь — Липовая нога“ восточнославянского происхождения. Мужик, повстречавший медведя, в схватке отрубает ему лапу и приносит ее домой бабе. Старуха сдирает с лапы кожу и ставит лапу варить (медвежье мясо), а сама начинает прясть медвежью шерсть. Медведь же, сделав из липы деревянную ногу, идет в спящее село, вламывается в избу и съедает обидчиков. Медведь мстит по всем правилам кровнородственной мести: око за око, зуб за зуб. Раз его мясо едят, значит, и он ест живых людей.
Здесь прослеживается архаический мотив нарушения запрета убивать и употреблять в пищу тотемное животное. Вместе с тем в сказках описывается и ситуация, когда зверь преданно следует священной родственной связи и обязательствам, вытекающим из нее. Так, в сказке об Иване-царевиче и Сером волке в начале волк убивает коня Ивана. А затем клянется царевичу служить „верой и правдой“. С точки зрения тотемизма, пишет В.П. Аникин, „понятно, почему сказочный волк, причинив вред человеку, считает себя обязанным возместить урон верной службой. Родственная связь считалась священной, и нарушение ее каралось. Когда поступки шли вразрез с родовой моралью, они требовали возмещения и возмещения самого точного. Волк съел коня. Он сам служит герою конем. Он берет на себя обязанность помогать человеку добровольно, без принуждения: и для него родственные связи священны. Логика первобытного мышления здесь несомненна“ [Аникин 1977. С. 48‒49]» [Кривошеев 1988. С. 7‒8].
Как уже было замечено выше, на волках (=шаманских духах-помощниках?) могли разъезжать ведьмы [Гура 1997. С. 129] и обладающие волшебными способностями мифологические существа, наподобие великанши Хюрроккин [Младшая Эдда I 1970. С. 49]. Возвращаясь к сказке об Иване-царевиче и Сером волке (и параллельно обращаясь к целому ряду других русских волшебных сказок), не будет ошибкой утверждать вслед за Н.Н. Сперанским, что даже если, на первый взгляд, в самом тексте волшебной сказки «шаманская атрибутика героя никак не выражена, но по сути сказка описывает шаманское путешествие» [ПВ 2007. С. 229 («Дар шаманизма — дар волхвования»)].
Ю.В. Кривошеев писал: «Тотемизм — это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида животных. <...>
Вопрос о тотемистическом культе у восточных славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся с трансформацией тотемизма в культ предков в образе животных. Отголоски „звериных“ культов прослеживаются в ранних церковных поучениях. В <...> „Хождении Богородицы по мукам“ сообщается, что славяне „богы прозваша“ зверей („тварей“). Отцы церкви неистовствовали, когда новообращенные христиане продолжали соблюдать „бесовские“ обряды, при которых их участники „надевали на себя звериные шкуры“, плясали, скакали и пели „бесовские“ песни. Тотемистические игры в медведя („комоедица“) сохранились в белоруской деревне до второй половины XIX в. Здесь, видимо, можно усмотреть пережиток ритуальных плясок на празднике тотема, который известен и изучен у народов Крайнего Севера и многих других. <...>
Зачастую в сказках животных называют лисичка-сестричка, волк-братик, медведь-дедушка. Это в определенной мере свидетельствует о представлении о кровно родственных связях человека и животных. <...> Глубоко архаические воззрения о родстве человека и животных донесла до нас сказка „Медведь — Липовая нога“ восточнославянского происхождения. Мужик, повстречавший медведя, в схватке отрубает ему лапу и приносит ее домой бабе. Старуха сдирает с лапы кожу и ставит лапу варить (медвежье мясо), а сама начинает прясть медвежью шерсть. Медведь же, сделав из липы деревянную ногу, идет в спящее село, вламывается в избу и съедает обидчиков. Медведь мстит по всем правилам кровнородственной мести: око за око, зуб за зуб. Раз его мясо едят, значит, и он ест живых людей.
Здесь прослеживается архаический мотив нарушения запрета убивать и употреблять в пищу тотемное животное. Вместе с тем в сказках описывается и ситуация, когда зверь преданно следует священной родственной связи и обязательствам, вытекающим из нее. Так, в сказке об Иване-царевиче и Сером волке в начале волк убивает коня Ивана. А затем клянется царевичу служить „верой и правдой“. С точки зрения тотемизма, пишет В.П. Аникин, „понятно, почему сказочный волк, причинив вред человеку, считает себя обязанным возместить урон верной службой. Родственная связь считалась священной, и нарушение ее каралось. Когда поступки шли вразрез с родовой моралью, они требовали возмещения и возмещения самого точного. Волк съел коня. Он сам служит герою конем. Он берет на себя обязанность помогать человеку добровольно, без принуждения: и для него родственные связи священны. Логика первобытного мышления здесь несомненна“ [Аникин 1977. С. 48‒49]» [Кривошеев 1988. С. 7‒8].
Как уже было замечено выше, на волках (=шаманских духах-помощниках?) могли разъезжать ведьмы [Гура 1997. С. 129] и обладающие волшебными способностями мифологические существа, наподобие великанши Хюрроккин [Младшая Эдда I 1970. С. 49]. Возвращаясь к сказке об Иване-царевиче и Сером волке (и параллельно обращаясь к целому ряду других русских волшебных сказок), не будет ошибкой утверждать вслед за Н.Н. Сперанским, что даже если, на первый взгляд, в самом тексте волшебной сказки «шаманская атрибутика героя никак не выражена, но по сути сказка описывает шаманское путешествие» [ПВ 2007. С. 229 («Дар шаманизма — дар волхвования»)].
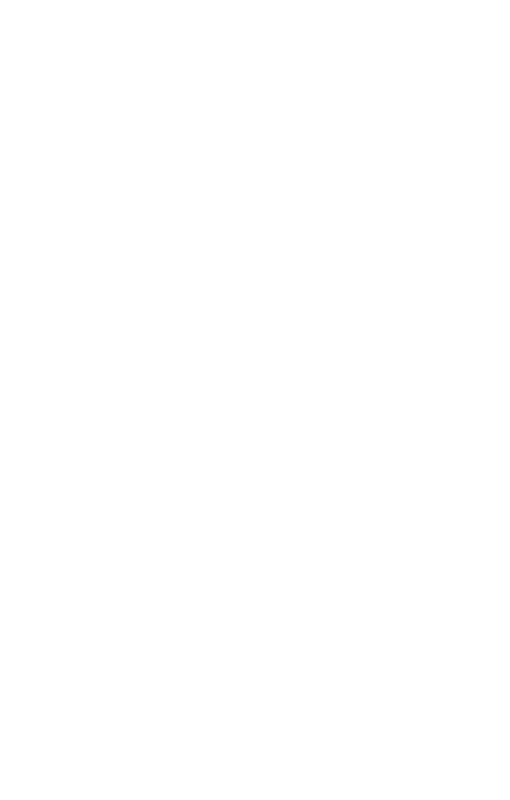
Иллюстрация И.Я. Билибина (1899) к русской народной «Сказке об Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке» из сборника А. Н. Афанасьева.
Разбирая образ медведя в традиционной культуре славян, А.В. Гура пишет: «Повсеместно в народных этиологических легендах происхождение медведя связывается с человеком, обращенным Богом в медведя в наказание за какие-либо провинности» [Гура 1997. С. 160]. И даже более того: «По поверью карпатских украинцев, медведь произошел от попа (Ивано-Франковская обл., Верховинский р-н, Головы)» [Гура 1997. С. 159]. Также достаточно распространены представления, согласно которым «„первый выдмедь <...> був богом“ (Харьковская губ., Купянский у.). С чистотой и божественностью связано и сближение медведя со священником. Его называют в шутку „лесным архимандритом“. „У лясу i мядзведзь архiмандрыц“, — говорят белорусы» [Гура 1997. С. 159]. Вообще, среди лесных зверей медведю «отводится главенствующая роль. Медведь наиболее близок волку. Сближение это неслучайно и обусловлено тем, что оба они сильные, хищные и опасные для человека звери. Среди зверей медведь выделяется не только своей силой, но и долголетием: по сербскому поверью, из всех зверей дольше всех живет медведь, а меньше всех — заяц (Хомолье)» [Гура 1997. С. 159].
«Давно отмечена „несомненная архаичность мифопоэтических представлений о медведе и связанных с ним культов и исключительная устойчивость взгляда человека на природу медведя и его сакральное значение“; у многих народов существовали верования в небесное происхождение медведя, наделенного божественными качествами [Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 128, 129.] Бурый медведь с русым отливом шкуры, обладавший огромной силой и хитростью, казался сородичем людей, „лесным человеком“, каждую весну воскресающим из-под земли. Он жил оседло и достигал сравнимого с человеческим возраста в 30–50 лет. При ходьбе опирался на всю ступню, отпечатки его пятипалых лап походили на след босой ноги. Круглая голова, морда с хитрыми глазами и способность передвигаться на задних конечностях усиливали его „человекоподобие“.
Упоминания в древнейших, в частности, хеттских текстах, о „людях-медведях“ отсылают к широко распространённому среди народов Евразии мифу о кровной связи медведя с человеческим родом: „медведь — предок людей, их старший родственник, наконец, тотем“, известны „медвежьи“ имена валлийского царя Arthge (от *аrto-genos, „сын медведя“) и первого польского князя Mieszko. Лесной богине Артемиде-Медведице (от древнегреческого Ἄρτεμις „медвежья богиня“) приносили в жертву медведя, при её храме находился приручённый медведь, а жрецы во время праздника облачались в медвежьи шкуры и исполняли культовую пляску медведя. Нимфа Каллисто, спутница Артемиды, была обращена ею в медведицу, после чего перенесена Зевсом на небо в виде созвездия Большой Медведицы [Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 128‒130]» [Байдин 2021. С. 32‒33].
Энциклопедия «Мифы народов мира» сообщает: «В мифологических представлениях и ритуале М[едведь] может выступать как божество (в частности, умирающее и возрождающееся), культурный герой, основатель традиции, предок, родоначальник, тотем, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин нижнего мира, священное и (или) жертвенное животное, зооморфный классификатор, элемент астрального кода, воплощение души, даритель, звериный двойник человека, помощник шамана, его зооморфная ипостась и душа, оборотень и т.п. М[едведь] — один из главных героев животного эпоса, сказок, быличек, песен, загадок, поверий, заговоров и др. Значение М[едведя] определяется прежде всего его подобием человеку, толкуемым мифопоэтическим сознанием как указание на общее их происхождение или происхождение друг от друга. Тему подобия или тождества М[едведя] и человека в разных планах реализует ритуал медвежьей охоты, составляющий ядро культа М[едведя]. Один из основных этапов ритуала медвежьей охоты (после убийства М[едведя]) в ряде сибирских традиций состоит в „расстёгивании“ и последующем снятии шкуры (или „шубы“), что в известной степени означает первый этап принятия М[едведя] человеческим коллективом (превращение М[едведя] в человека, снятие различий между ними), за которым следует второй этап — вкушение медвежьего мяса. Медвежий ритуал („медвежий праздник“) достаточно полно сохранился в ряде традиций (обские угры, кеты, нивхи и др.) вплоть до 20 в.; по многочисленным пережиткам он может быть восстановлен и для других традиций. Кроме того, целый ряд свидетельств (изображения М[едведя] в пещерах Франции, находки большого скопления медвежьих костей в пещерах ФРГ и Швейцарии, собранных в определённом порядке, что имеет аналогии в современных медвежьих ритуалах; петроглифы Скандинавии, Урала, Восточной Сибири) делает несомненными архаичность мифопоэтических представлений о М[едведе] и связанных с ним культов и исключительную устойчивость взгляда человека на природу М[едведя] и его сакральное значение» [Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 128].
Академик Б.А. Рыбаков писал: «Древнейшими медвежьими кладбищами, наводящими на мысль о нарочитом, ритуальном захоронении медвежьих черепов и лап, являются мустьерские пещеры в Альпах, Северном Причерноморье и на Кавказе. <...>
В последнее время тщательный разбор этого вопроса произвел А.Д. Столяр, убедительно обосновывающий бесспорную ритуальность определенных медвежьих пещер [Столяр 1971. С. 118‒164]. Вывод А.Д. Столяра основывается на следующем: среди пещер, содержащих разные костные остатки, четко выделяются пещеры с исключительно медвежьими костями (до 99,5%). Эти пещеры труднодоступны (как и этнографические медвежьи кладбища); неандертальцы бывали в них, но не жили постоянно. Хоронились в пещерах обычно не все кости медведей, а только черепа и кости лап.
Особый интерес представляют медвежьи захоронения в известной карстовой пещере Драхенлох, расположенной в альпийской зоне на высоте около 2,5 км. Черепа и кости лап медведей хранились в специально отгороженном камнями отсеке пещеры. „На границе второй и третьей камер (пещеры) стояли в ряд шесть грубых прямоугольных каменных ящиков, образованных из плит и перекрытых одной большой горизонтальной плитой. Заполнение этих ″сейфов″ также состояло из черепов и длинных костей (лап) пещерного хищника и несло следы строгой регламентации... Из других находок надо ещё отметить размещение нескольких неповрежденных черепов в естественной нише и неподалеку от неё — один целый череп, обложенный по контуру камнями...“ [Столяр 1971. С. 141].
Захоронения медвежьих черепов и костей лап в естественных нишах известны в пещерах Петерсхелле (пять черепов), Зальцофен (тоже пять черепов) и Клюни (тоже пять). В последнем случае черепа были положены по кругу. В пещере Регурду кости медведя были захоронены в яме, выложенной камнем и прикрытой массивной плитой. В Ильинской пещере близ Одессы кости медведей находились за специальной каменной оградой; череп медведя был обложен камнями. Хорошо сохранившийся череп медведя, особо поставленный, известен из пещеры Кударо [Столяр 1971. С. 148]. Можно вполне согласиться с исследователем, что преднамеренное, осознанное сбережение в труднодоступных местах, под каменным прикрытием черепов и лап медведя может свидетельствовать о начатках тотемизма и охотничье-производственной магии [Столяр 1971. С. 159, 160].
При сопоставлении археологических и этнографических данных поражает удивительная архаичность медвежьего праздника: охотники Сибири, так же, как и далекие неандертальцы, отрезали голову и лапы медведя, так же прятали их в „медвежьи амбары“, в которых за долгие годы „превеликие скоплялись груды костей...“. Очевидно, и в мустьерских пещерах тоже устраивались какие-то медвежьи праздники, подобные сибирским, — слишком уж одинаковы материальные следы, поддающиеся сопоставлению. Географически преобладание охоты на медведя и медвежий культ в мустьерское время ограничены Центральной Европой и южной половиной Восточной Европы (включая и Кавказ)» [Рыбаков 1981. С. 100‒101].
В германо-скандинавской традиции культ медведя, кажется, дожил до христианского средневековья: «При раскопках алтаря средневековой церкви на острове Фрёсён [в Швеции, — прим. В.] были найдены остатки жертвоприношения, в частности, останки медведей» [Насстрём 2022. С. 40; со ссылкой на: Gräslund 1992. P. 129‒150].
Разные исследователи неоднократно указывали на связь медведя с культом Волоса/Велеса у славян [Рыбаков 1981. С. 97‒108, 421‒431; Успенский 1982. С. 85‒112; Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 129‒130 и др.]. Так, например, академик Б.А. Рыбаков считал, что «Волос — древнейшее из всех славянских божеств, корни представлений о котором восходят к медвежьему культу мустьерских неандертальцев» [Рыбаков 1981. С. 107]. И далее: «Воздействие постепенно возраставшего земледелия могло сказаться лишь в одном: архаичная связь Велеса с убитым, мертвым зверем, возникшая в охотничью эпоху, теперь осмыслялась шире — как мир мертвых вообще. Умершие предки предавались земле; в сознании древних пахарей предки содействовали плодородию и урожаю. Угощение „дзядов“ на кладбище или за домашним столом носит аграрно-магический характер. Вполне допустимо, что именно по этой причине, в связи с культом предков, Велес и в земледельческом обществе сохранил связь с миром мертвых» [Рыбаков 1981. С. 425].
Разбирая образ медведя в традиционной культуре славян, А.В. Гура пишет: «Повсеместно в народных этиологических легендах происхождение медведя связывается с человеком, обращенным Богом в медведя в наказание за какие-либо провинности» [Гура 1997. С. 160]. И даже более того: «По поверью карпатских украинцев, медведь произошел от попа (Ивано-Франковская обл., Верховинский р-н, Головы)» [Гура 1997. С. 159]. Также достаточно распространены представления, согласно которым «„первый выдмедь <...> був богом“ (Харьковская губ., Купянский у.). С чистотой и божественностью связано и сближение медведя со священником. Его называют в шутку „лесным архимандритом“. „У лясу i мядзведзь архiмандрыц“, — говорят белорусы» [Гура 1997. С. 159]. Вообще, среди лесных зверей медведю «отводится главенствующая роль. Медведь наиболее близок волку. Сближение это неслучайно и обусловлено тем, что оба они сильные, хищные и опасные для человека звери. Среди зверей медведь выделяется не только своей силой, но и долголетием: по сербскому поверью, из всех зверей дольше всех живет медведь, а меньше всех — заяц (Хомолье)» [Гура 1997. С. 159].
«Давно отмечена „несомненная архаичность мифопоэтических представлений о медведе и связанных с ним культов и исключительная устойчивость взгляда человека на природу медведя и его сакральное значение“; у многих народов существовали верования в небесное происхождение медведя, наделенного божественными качествами [Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 128, 129.] Бурый медведь с русым отливом шкуры, обладавший огромной силой и хитростью, казался сородичем людей, „лесным человеком“, каждую весну воскресающим из-под земли. Он жил оседло и достигал сравнимого с человеческим возраста в 30–50 лет. При ходьбе опирался на всю ступню, отпечатки его пятипалых лап походили на след босой ноги. Круглая голова, морда с хитрыми глазами и способность передвигаться на задних конечностях усиливали его „человекоподобие“.
Упоминания в древнейших, в частности, хеттских текстах, о „людях-медведях“ отсылают к широко распространённому среди народов Евразии мифу о кровной связи медведя с человеческим родом: „медведь — предок людей, их старший родственник, наконец, тотем“, известны „медвежьи“ имена валлийского царя Arthge (от *аrto-genos, „сын медведя“) и первого польского князя Mieszko. Лесной богине Артемиде-Медведице (от древнегреческого Ἄρτεμις „медвежья богиня“) приносили в жертву медведя, при её храме находился приручённый медведь, а жрецы во время праздника облачались в медвежьи шкуры и исполняли культовую пляску медведя. Нимфа Каллисто, спутница Артемиды, была обращена ею в медведицу, после чего перенесена Зевсом на небо в виде созвездия Большой Медведицы [Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 128‒130]» [Байдин 2021. С. 32‒33].
Энциклопедия «Мифы народов мира» сообщает: «В мифологических представлениях и ритуале М[едведь] может выступать как божество (в частности, умирающее и возрождающееся), культурный герой, основатель традиции, предок, родоначальник, тотем, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин нижнего мира, священное и (или) жертвенное животное, зооморфный классификатор, элемент астрального кода, воплощение души, даритель, звериный двойник человека, помощник шамана, его зооморфная ипостась и душа, оборотень и т.п. М[едведь] — один из главных героев животного эпоса, сказок, быличек, песен, загадок, поверий, заговоров и др. Значение М[едведя] определяется прежде всего его подобием человеку, толкуемым мифопоэтическим сознанием как указание на общее их происхождение или происхождение друг от друга. Тему подобия или тождества М[едведя] и человека в разных планах реализует ритуал медвежьей охоты, составляющий ядро культа М[едведя]. Один из основных этапов ритуала медвежьей охоты (после убийства М[едведя]) в ряде сибирских традиций состоит в „расстёгивании“ и последующем снятии шкуры (или „шубы“), что в известной степени означает первый этап принятия М[едведя] человеческим коллективом (превращение М[едведя] в человека, снятие различий между ними), за которым следует второй этап — вкушение медвежьего мяса. Медвежий ритуал („медвежий праздник“) достаточно полно сохранился в ряде традиций (обские угры, кеты, нивхи и др.) вплоть до 20 в.; по многочисленным пережиткам он может быть восстановлен и для других традиций. Кроме того, целый ряд свидетельств (изображения М[едведя] в пещерах Франции, находки большого скопления медвежьих костей в пещерах ФРГ и Швейцарии, собранных в определённом порядке, что имеет аналогии в современных медвежьих ритуалах; петроглифы Скандинавии, Урала, Восточной Сибири) делает несомненными архаичность мифопоэтических представлений о М[едведе] и связанных с ним культов и исключительную устойчивость взгляда человека на природу М[едведя] и его сакральное значение» [Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 128].
Академик Б.А. Рыбаков писал: «Древнейшими медвежьими кладбищами, наводящими на мысль о нарочитом, ритуальном захоронении медвежьих черепов и лап, являются мустьерские пещеры в Альпах, Северном Причерноморье и на Кавказе. <...>
В последнее время тщательный разбор этого вопроса произвел А.Д. Столяр, убедительно обосновывающий бесспорную ритуальность определенных медвежьих пещер [Столяр 1971. С. 118‒164]. Вывод А.Д. Столяра основывается на следующем: среди пещер, содержащих разные костные остатки, четко выделяются пещеры с исключительно медвежьими костями (до 99,5%). Эти пещеры труднодоступны (как и этнографические медвежьи кладбища); неандертальцы бывали в них, но не жили постоянно. Хоронились в пещерах обычно не все кости медведей, а только черепа и кости лап.
Особый интерес представляют медвежьи захоронения в известной карстовой пещере Драхенлох, расположенной в альпийской зоне на высоте около 2,5 км. Черепа и кости лап медведей хранились в специально отгороженном камнями отсеке пещеры. „На границе второй и третьей камер (пещеры) стояли в ряд шесть грубых прямоугольных каменных ящиков, образованных из плит и перекрытых одной большой горизонтальной плитой. Заполнение этих ″сейфов″ также состояло из черепов и длинных костей (лап) пещерного хищника и несло следы строгой регламентации... Из других находок надо ещё отметить размещение нескольких неповрежденных черепов в естественной нише и неподалеку от неё — один целый череп, обложенный по контуру камнями...“ [Столяр 1971. С. 141].
Захоронения медвежьих черепов и костей лап в естественных нишах известны в пещерах Петерсхелле (пять черепов), Зальцофен (тоже пять черепов) и Клюни (тоже пять). В последнем случае черепа были положены по кругу. В пещере Регурду кости медведя были захоронены в яме, выложенной камнем и прикрытой массивной плитой. В Ильинской пещере близ Одессы кости медведей находились за специальной каменной оградой; череп медведя был обложен камнями. Хорошо сохранившийся череп медведя, особо поставленный, известен из пещеры Кударо [Столяр 1971. С. 148]. Можно вполне согласиться с исследователем, что преднамеренное, осознанное сбережение в труднодоступных местах, под каменным прикрытием черепов и лап медведя может свидетельствовать о начатках тотемизма и охотничье-производственной магии [Столяр 1971. С. 159, 160].
При сопоставлении археологических и этнографических данных поражает удивительная архаичность медвежьего праздника: охотники Сибири, так же, как и далекие неандертальцы, отрезали голову и лапы медведя, так же прятали их в „медвежьи амбары“, в которых за долгие годы „превеликие скоплялись груды костей...“. Очевидно, и в мустьерских пещерах тоже устраивались какие-то медвежьи праздники, подобные сибирским, — слишком уж одинаковы материальные следы, поддающиеся сопоставлению. Географически преобладание охоты на медведя и медвежий культ в мустьерское время ограничены Центральной Европой и южной половиной Восточной Европы (включая и Кавказ)» [Рыбаков 1981. С. 100‒101].
В германо-скандинавской традиции культ медведя, кажется, дожил до христианского средневековья: «При раскопках алтаря средневековой церкви на острове Фрёсён [в Швеции, — прим. В.] были найдены остатки жертвоприношения, в частности, останки медведей» [Насстрём 2022. С. 40; со ссылкой на: Gräslund 1992. P. 129‒150].
Разные исследователи неоднократно указывали на связь медведя с культом Волоса/Велеса у славян [Рыбаков 1981. С. 97‒108, 421‒431; Успенский 1982. С. 85‒112; Иванов‒Топоров 1982‒1. С. 129‒130 и др.]. Так, например, академик Б.А. Рыбаков считал, что «Волос — древнейшее из всех славянских божеств, корни представлений о котором восходят к медвежьему культу мустьерских неандертальцев» [Рыбаков 1981. С. 107]. И далее: «Воздействие постепенно возраставшего земледелия могло сказаться лишь в одном: архаичная связь Велеса с убитым, мертвым зверем, возникшая в охотничью эпоху, теперь осмыслялась шире — как мир мертвых вообще. Умершие предки предавались земле; в сознании древних пахарей предки содействовали плодородию и урожаю. Угощение „дзядов“ на кладбище или за домашним столом носит аграрно-магический характер. Вполне допустимо, что именно по этой причине, в связи с культом предков, Велес и в земледельческом обществе сохранил связь с миром мертвых» [Рыбаков 1981. С. 425].
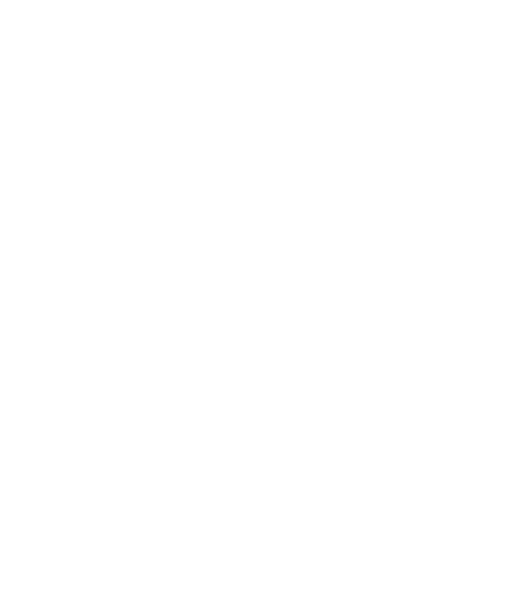
В современном славянском родноверии «медвежья лапа» используется как один из символов Велеса [Велеслав 2022. С. 581]
Если в украинских народных верованиях «первый выдмедь <...> був богом», то в русских — место Бога в конце концов займёт Никола: «Н. Витсен и Г. Давид в своих описаниях Московии XVII в. свидетельствуют, что русские настолько почитают св. Николая, что, по их мнению, когда Бог умрет, св. Николай займет его место (по словам Витсена: „Een Russ overste seyde tegen een van myn bekende: St. Nicolaes is in den hemel de naeste aen Godt en hy succedeert deselve in zyn afzyn of sterven, doch de wysere weeten beter“. Между тем Давид пишет: „Hoc inter festa sanctorum est celeberrimum, miro enim affectu totius gentis colitur. Refertur Moscos ita huic Sancto addictos fuisse, ut aliquando dixerint, si Deus moreretur neminem successurum, nisi vel Nicolaum vel certe suum Czarum“)» [Успенский 1982. С. 38]. Иными словами, по славянским верованиям выходит так, что Велес был до библейского Бога (Волос-Медведь), и будет после (Велес-Никола).
Б.А. Рыбаков замечал: «Если верно сделанное Ивановым и Топоровым сближение слова „волхв“ с тем же понятием „волохатости“, „косматости“, то в поисках истоков мы можем оказаться на той хронологической глубине, когда охотник маскировался в звериную шкуру, когда колдун-жрец, имитируя процесс охоты, выступал в звериной шкуре и был волохатым. Позднейшие охотники на медведей не маскировались в медвежьи шкуры, но как ритуальная одежда медвежья шкура дожила до XIX в. (медвежьи комоедицы 24 марта у белорусов)» [Рыбаков 1981. С. 426].
И ещё у него же: «Осознание родства человека с медведем, столь часто прослеживаемое по этнографическим материалам, <...> должно восходить к глубокой древности, так как первобытному охотнику из всех звериных шкур (бизона, коня, носорога) легче всего было бы надеть на себя шкуру медведя и воспроизводить в ней движения этого зверя на охоте, если охотникам нужно было подкрадываться переряженными к настоящим медведям, или во время ритуального магического танца на медвежьем празднике» [Рыбаков 1981. С. 101‒102].
Характерно, что даже когда память о древнем славянском Боге на Руси безжалостно вытравлялась церковниками, медведь оставался в сознании русского народа животным волшебным, связанным с волхованиями и ведовством. По словам А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной, составительниц сборника «Фольклорный театр»: «Почтение, которым окружался медведь, особенно выученный, восходит к языческим представлениям о медведе — родственнике или даже прародителе человека, к вере в его прямую связь с плодородием, здоровьем, благополучием. В археологии, этнографии, фольклоре, народном прикладном искусстве имеется большое количество фактов, говорящих о том, что медведь у славян почитался магическим животным. И поводыри открыто использовали это: они охотно „лечили“ больных („У кого спина болит — спину помнет, у кого живот болит — горшки накинет, а у кого в боках колотья, он их приколет“ — так рекламировал цыган-поводильщик лекарские способности своего медведя в одной из казачьих станиц), пророчили здоровье человеку, прикоснувшемуся к медведю; сулили богатую, счастливую жизнь тому, кто пустит к себе ночевать хозяина с медведем» [ФТ 1988. С. 428‒429 (гл. «Медвежья потеха»)].
Если в украинских народных верованиях «первый выдмедь <...> був богом», то в русских — место Бога в конце концов займёт Никола: «Н. Витсен и Г. Давид в своих описаниях Московии XVII в. свидетельствуют, что русские настолько почитают св. Николая, что, по их мнению, когда Бог умрет, св. Николай займет его место (по словам Витсена: „Een Russ overste seyde tegen een van myn bekende: St. Nicolaes is in den hemel de naeste aen Godt en hy succedeert deselve in zyn afzyn of sterven, doch de wysere weeten beter“. Между тем Давид пишет: „Hoc inter festa sanctorum est celeberrimum, miro enim affectu totius gentis colitur. Refertur Moscos ita huic Sancto addictos fuisse, ut aliquando dixerint, si Deus moreretur neminem successurum, nisi vel Nicolaum vel certe suum Czarum“)» [Успенский 1982. С. 38]. Иными словами, по славянским верованиям выходит так, что Велес был до библейского Бога (Волос-Медведь), и будет после (Велес-Никола).
Б.А. Рыбаков замечал: «Если верно сделанное Ивановым и Топоровым сближение слова „волхв“ с тем же понятием „волохатости“, „косматости“, то в поисках истоков мы можем оказаться на той хронологической глубине, когда охотник маскировался в звериную шкуру, когда колдун-жрец, имитируя процесс охоты, выступал в звериной шкуре и был волохатым. Позднейшие охотники на медведей не маскировались в медвежьи шкуры, но как ритуальная одежда медвежья шкура дожила до XIX в. (медвежьи комоедицы 24 марта у белорусов)» [Рыбаков 1981. С. 426].
И ещё у него же: «Осознание родства человека с медведем, столь часто прослеживаемое по этнографическим материалам, <...> должно восходить к глубокой древности, так как первобытному охотнику из всех звериных шкур (бизона, коня, носорога) легче всего было бы надеть на себя шкуру медведя и воспроизводить в ней движения этого зверя на охоте, если охотникам нужно было подкрадываться переряженными к настоящим медведям, или во время ритуального магического танца на медвежьем празднике» [Рыбаков 1981. С. 101‒102].
Характерно, что даже когда память о древнем славянском Боге на Руси безжалостно вытравлялась церковниками, медведь оставался в сознании русского народа животным волшебным, связанным с волхованиями и ведовством. По словам А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной, составительниц сборника «Фольклорный театр»: «Почтение, которым окружался медведь, особенно выученный, восходит к языческим представлениям о медведе — родственнике или даже прародителе человека, к вере в его прямую связь с плодородием, здоровьем, благополучием. В археологии, этнографии, фольклоре, народном прикладном искусстве имеется большое количество фактов, говорящих о том, что медведь у славян почитался магическим животным. И поводыри открыто использовали это: они охотно „лечили“ больных („У кого спина болит — спину помнет, у кого живот болит — горшки накинет, а у кого в боках колотья, он их приколет“ — так рекламировал цыган-поводильщик лекарские способности своего медведя в одной из казачьих станиц), пророчили здоровье человеку, прикоснувшемуся к медведю; сулили богатую, счастливую жизнь тому, кто пустит к себе ночевать хозяина с медведем» [ФТ 1988. С. 428‒429 (гл. «Медвежья потеха»)].
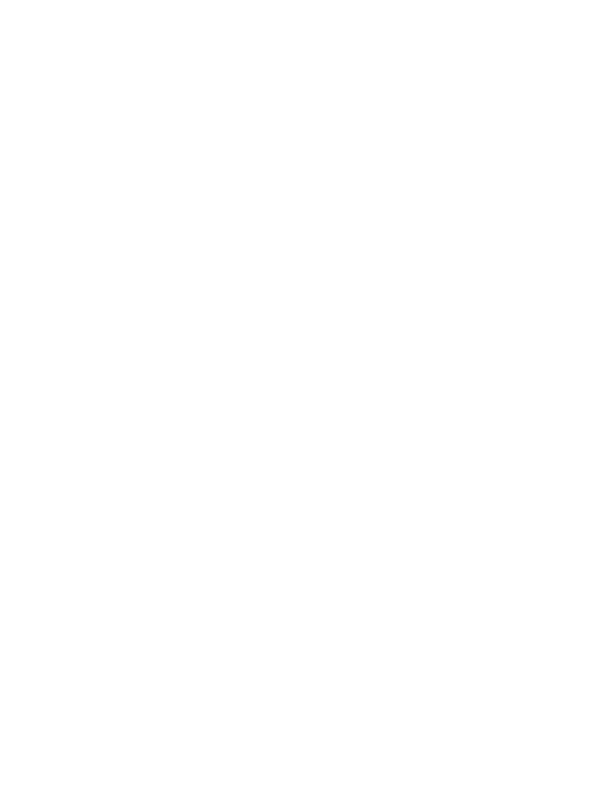
На гравюре из «Истории северных народов» Олауса Магнуса русские скоморохи дают представление с дрессированными медведями [Olaus Magnus 1555. P. 629]. Олаус Магнус, помимо прочего, «сообщает, что „русские и литовцы, храбрые и воинственные народы, самые близкие соседи шведов и готов на Востоке, находят особенное удовольствие, имея диких зверей, которых приручают так, что они слепо повинуются их малейшему знаку“. Особенно часто там дрессируют медведей. Их обучают различным трюкам и, водя их по ярмаркам, зарабатывают себе на пропитание. Вожаки медведей — скоморохи заходили даже на территорию западных государств» [Савельева 1983. С. 85]
- она способствует плодовитости скота (для этого достаточно было поцарапать ею коровье вымя);
- служит оберегом „от домового“ (с этой целью ее вешали во дворе).
Ср. у Б.А. Рыбакова: «Палеолитические захоронения медвежьих лап, олицетворявших в сознании первобытного охотника столь нужную ему несокрушимую силу и крепость, были одним из первых приобщений человека к сфере магии и заклинаний. Быть может, именно поэтому отголоски культа отрубленных медвежьих лап известны нам на протяжении многих тысяч лет — от неолита до XIX в. В окрестностях Новгорода в неолитических слоях часто встречались „пальцевые кости медвежьей лапы, зарытые в одну яму с костями человека“ [Передольский 1898. С. 175].
О медвежьем культе неолита и бронзового века свидетельствуют интереснейшие находки Д.А. Крайнова в зоне фатьяновской культуры [Крайнов 1972. С. 142]. Им обнаружены ритуальные захоронения медведей на фатьяновских могильниках и амулеты из медвежьих когтей или имитирующие медвежьи когти. Обильны средневековые сведения о культе медвежьих лап. Много данных об этом собрано H.H. Ворониным в статье о медвежьем культе [Воронин 1941; Воронин 1960]. Здесь суммированы сведения о находках глиняных моделей медвежьих лап в славянских курганах Поволжья и Приладожья; в ряде случаев в могилах с трупосожжением найдены кости медвежьих лап с когтями [Воронин 1960. С. 48‒50]. По данным Е.А. Рыдзевской, культ медведя (и, в частности, медвежьей лапы) широко отражен в археологических материалах и фольклоре Скандинавии [Воронин 1960. С. 58, 59]. Медвежьи лапы и когти упомянуты в литовской летописи при описании похорон легендарного князя Свенторога [Западнорусские л. 1907. Ст. 235: „и ѿ тых часов великыи кн҃зь Литовскїи и боꙗре там телеса их жигали. и длѧ того тое месце прозвано ѿ тых часов Швинторога на имѧ тог кн҃зѧ великого. и коли которог кн҃зѧ Литовского або пана сожжено тѣло. тогды при нихъ кладывали ногъти рыси. або медвежьи“].
Важные сведения о культе медвежьей лапы в XIX‒XX вв. дает нам этнография.
Медвежья лапа, носившая название „скотьего бога“, вывешивалась еще в начале XX в. подмосковными крестьянами во дворах для охраны скота. „Скотьим богом“, как известно, летопись называет Волоса [Зернова 1932. С. 40‒49]» [Рыбаков 1981. С. 102]. И — буквально через несколько страниц: «Особенно сближает медведя с Волосом-Велесом наименование медвежьей лапы, оберегающей крестьянский двор, „скотьим богом“, традиционным обозначением Велеса в русских летописях» [Рыбаков 1981. С. 107].
Б.А. Успенский замечал: «Необходимо иметь в виду, что как леший, так и медведь может рассматриваться как ипостась Волоса; соответственно медведь у восточных славян ассоциируется с лешим» [Успенский 1982. С. 85].
Архаические верования, корни которых уходят в те древнейшие эпохи, когда человек ещё не ощущал своей отделённости и отчуждённости от окружающей его живой природы, включая тотемические культы медведя и волка, оставили глубокий след в духовной культуре русского народа: «Тесная связь древнего человека с природой, значительная роль в хозяйствовании охоты и собирательства обусловили мифологизацию лесных и полевых зверей, птиц и растений. Со зверями связаны различные празднества и культы (зоолатрия), заклинания и заговоры. Звери выступали покровителями и помощниками людей, а также рассматривались как один из источников благополучия рода. <...>
Мотивы оборотничества, наделение зверей антропоморфными чертами, а людей — зооморфными качествами, известное уподобление жизни рода и звериных, птичьих сообществ — эта мифологическая традиция осмысления мира и человека сохранила свое значение в позднейшей культуре русского народа» [МРН 1995. С. 239].
- она способствует плодовитости скота (для этого достаточно было поцарапать ею коровье вымя);
- служит оберегом „от домового“ (с этой целью ее вешали во дворе).
Ср. у Б.А. Рыбакова: «Палеолитические захоронения медвежьих лап, олицетворявших в сознании первобытного охотника столь нужную ему несокрушимую силу и крепость, были одним из первых приобщений человека к сфере магии и заклинаний. Быть может, именно поэтому отголоски культа отрубленных медвежьих лап известны нам на протяжении многих тысяч лет — от неолита до XIX в. В окрестностях Новгорода в неолитических слоях часто встречались „пальцевые кости медвежьей лапы, зарытые в одну яму с костями человека“ [Передольский 1898. С. 175].
О медвежьем культе неолита и бронзового века свидетельствуют интереснейшие находки Д.А. Крайнова в зоне фатьяновской культуры [Крайнов 1972. С. 142]. Им обнаружены ритуальные захоронения медведей на фатьяновских могильниках и амулеты из медвежьих когтей или имитирующие медвежьи когти. Обильны средневековые сведения о культе медвежьих лап. Много данных об этом собрано H.H. Ворониным в статье о медвежьем культе [Воронин 1941; Воронин 1960]. Здесь суммированы сведения о находках глиняных моделей медвежьих лап в славянских курганах Поволжья и Приладожья; в ряде случаев в могилах с трупосожжением найдены кости медвежьих лап с когтями [Воронин 1960. С. 48‒50]. По данным Е.А. Рыдзевской, культ медведя (и, в частности, медвежьей лапы) широко отражен в археологических материалах и фольклоре Скандинавии [Воронин 1960. С. 58, 59]. Медвежьи лапы и когти упомянуты в литовской летописи при описании похорон легендарного князя Свенторога [Западнорусские л. 1907. Ст. 235: „и ѿ тых часов великыи кн҃зь Литовскїи и боꙗре там телеса их жигали. и длѧ того тое месце прозвано ѿ тых часов Швинторога на имѧ тог кн҃зѧ великого. и коли которог кн҃зѧ Литовского або пана сожжено тѣло. тогды при нихъ кладывали ногъти рыси. або медвежьи“].
Важные сведения о культе медвежьей лапы в XIX‒XX вв. дает нам этнография.
Медвежья лапа, носившая название „скотьего бога“, вывешивалась еще в начале XX в. подмосковными крестьянами во дворах для охраны скота. „Скотьим богом“, как известно, летопись называет Волоса [Зернова 1932. С. 40‒49]» [Рыбаков 1981. С. 102]. И — буквально через несколько страниц: «Особенно сближает медведя с Волосом-Велесом наименование медвежьей лапы, оберегающей крестьянский двор, „скотьим богом“, традиционным обозначением Велеса в русских летописях» [Рыбаков 1981. С. 107].
Б.А. Успенский замечал: «Необходимо иметь в виду, что как леший, так и медведь может рассматриваться как ипостась Волоса; соответственно медведь у восточных славян ассоциируется с лешим» [Успенский 1982. С. 85].
Архаические верования, корни которых уходят в те древнейшие эпохи, когда человек ещё не ощущал своей отделённости и отчуждённости от окружающей его живой природы, включая тотемические культы медведя и волка, оставили глубокий след в духовной культуре русского народа: «Тесная связь древнего человека с природой, значительная роль в хозяйствовании охоты и собирательства обусловили мифологизацию лесных и полевых зверей, птиц и растений. Со зверями связаны различные празднества и культы (зоолатрия), заклинания и заговоры. Звери выступали покровителями и помощниками людей, а также рассматривались как один из источников благополучия рода. <...>
Мотивы оборотничества, наделение зверей антропоморфными чертами, а людей — зооморфными качествами, известное уподобление жизни рода и звериных, птичьих сообществ — эта мифологическая традиция осмысления мира и человека сохранила свое значение в позднейшей культуре русского народа» [МРН 1995. С. 239].
У ряда народов прежние представления о родстве с животными и птицами трансформировались в легенды о животных и птицах, когда-то игравших важную роль в жизни человека. Особенно это характерно для европейских народов. Например, предание о переселении италийских племен после вторжения этрусков рассказывает, что одно из племен шло под предводительством волка, другое — сороки, третье — быка. Волчица у римлян выступает уже не прародительницей, а воспитательницей основателей Рима — Ромула и Рема. Отголоски тотемизма видны в том, что дятел в Риме был посвящен Марсу, его не ели и поклонялись ему. Следы тотемизма прослеживаются также в названиях групп. Так, некоторые племена древних германцев назывались по именам животных: Молодые олени, Вепрь. Вероятно, древнее происхождение имеет традиция, существовавшая еще в начале XX в., когда француженки Бретани носили головные уборы из белой хлопчатобумажной ткани. В каждом селении форма головного убора была своя и имела название какого-либо животного. Возможно, этот обычай связан с прежними тотемическими представлениями, когда животные были тотемами определенных групп, проживавших в разных селениях.
Тотемический характер имеют также звериные пляски, известные повсеместно. О принадлежности подобных плясок к тотемическим представлениям говорит любопытный факт, отмеченный еще знаменитым английским путешественником Д. Ливингстоном у африканских бечуанов [южноафриканское племя, — прим. В.]: „Чтобы определить их обычай принимать (родовое) имя животных, они употребляют слово „бина“, т.е. плясать. Поэтому, чтобы узнать, к какому роду принадлежит житель Южной Африки, необходимо спросить: ″Какую пляску ты пляшешь?″“ [Ливингстон 1937. С. 20].
Участники плясок, чтобы быть похожими на тотемное животное, надевали на себя его шкуру либо специальную одежду, напоминающую шкуру животного, либо украшали свое тело татуировкой, которая напоминала раскраску тотемного животного. <...> Индейцы рода Волка, отправляясь на охоту, надевали шкуру волка, из рода Медведя — шкуру медведя» [Соколова 1972. С. 20, 23, 37‒38].
У ряда народов прежние представления о родстве с животными и птицами трансформировались в легенды о животных и птицах, когда-то игравших важную роль в жизни человека. Особенно это характерно для европейских народов. Например, предание о переселении италийских племен после вторжения этрусков рассказывает, что одно из племен шло под предводительством волка, другое — сороки, третье — быка. Волчица у римлян выступает уже не прародительницей, а воспитательницей основателей Рима — Ромула и Рема. Отголоски тотемизма видны в том, что дятел в Риме был посвящен Марсу, его не ели и поклонялись ему. Следы тотемизма прослеживаются также в названиях групп. Так, некоторые племена древних германцев назывались по именам животных: Молодые олени, Вепрь. Вероятно, древнее происхождение имеет традиция, существовавшая еще в начале XX в., когда француженки Бретани носили головные уборы из белой хлопчатобумажной ткани. В каждом селении форма головного убора была своя и имела название какого-либо животного. Возможно, этот обычай связан с прежними тотемическими представлениями, когда животные были тотемами определенных групп, проживавших в разных селениях.
Тотемический характер имеют также звериные пляски, известные повсеместно. О принадлежности подобных плясок к тотемическим представлениям говорит любопытный факт, отмеченный еще знаменитым английским путешественником Д. Ливингстоном у африканских бечуанов [южноафриканское племя, — прим. В.]: „Чтобы определить их обычай принимать (родовое) имя животных, они употребляют слово „бина“, т.е. плясать. Поэтому, чтобы узнать, к какому роду принадлежит житель Южной Африки, необходимо спросить: ″Какую пляску ты пляшешь?″“ [Ливингстон 1937. С. 20].
Участники плясок, чтобы быть похожими на тотемное животное, надевали на себя его шкуру либо специальную одежду, напоминающую шкуру животного, либо украшали свое тело татуировкой, которая напоминала раскраску тотемного животного. <...> Индейцы рода Волка, отправляясь на охоту, надевали шкуру волка, из рода Медведя — шкуру медведя» [Соколова 1972. С. 20, 23, 37‒38].
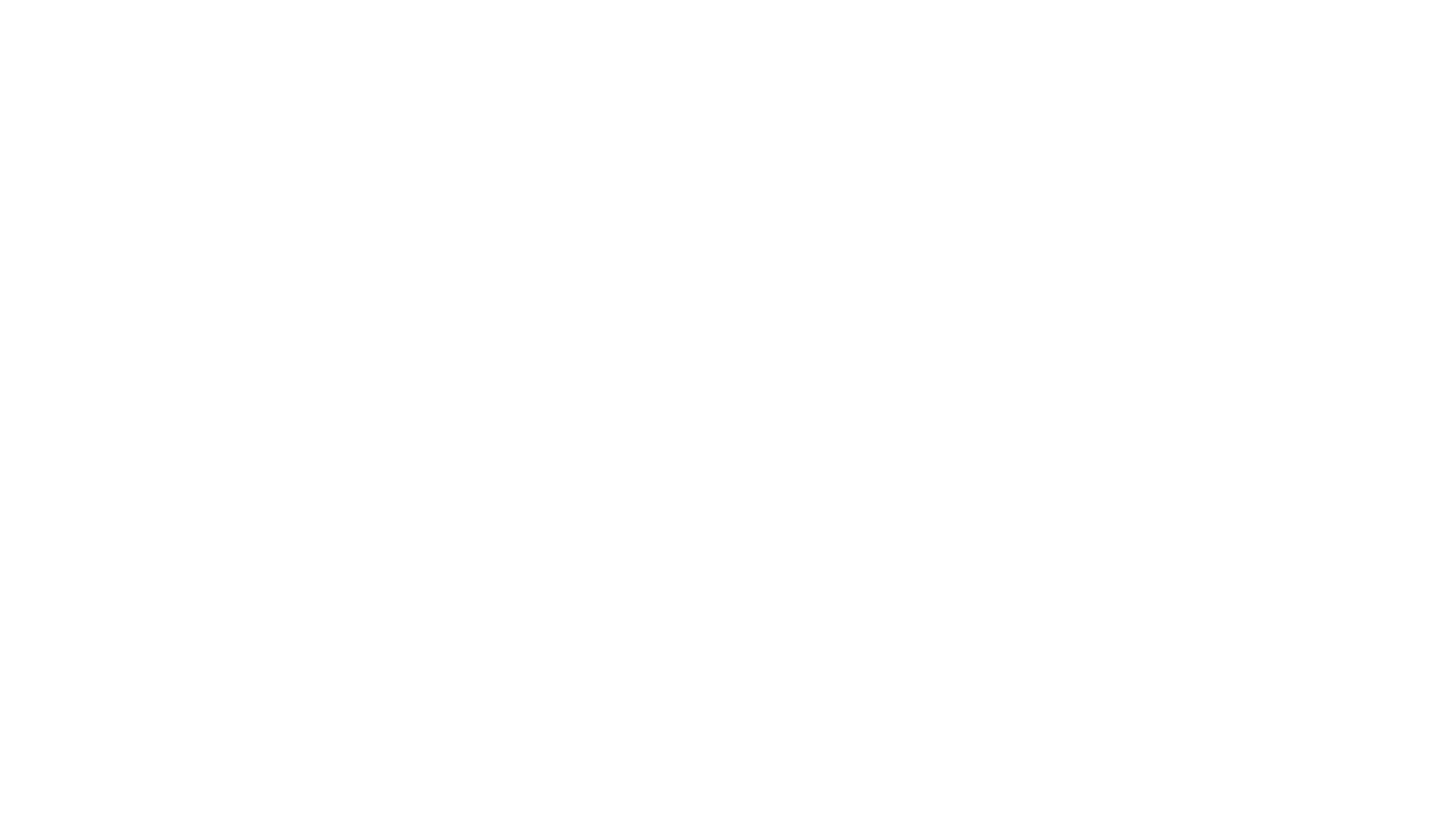
Тотемическая волчья пляска у индейцев квакиютль [Соколова 1972. С. 37]
В звериных образах, в том числе в образе волков, могли представляться шаманские духи-помощники: «Шаманскими духами-покровителями и помощниками были волки, собаки, койоты, лоси, орлы, гагары, чайки и другие животные и птицы. Шаман, изображая их, подражал их голосу, повадкам. <...> Главным духом-помощником шамана-бурята был волк. <...> У чукчей шаманские духи — чаще всего волк и ворон, мышь и сова, горностай, морж, белый медведь, у нивхов — волк, филин, сивуч, олень, заяц» [Соколова 1972. С. 92‒93].
Согласно традиционным представлениям нивхов, «медведи — это тоже „медведи-люди“, лишь перед людьми они имеют звериный облик. В любое время тигр или медведь могут превратиться в человека. Проводник В.К Арсеньева нанаец Дерсу Узала называл зверей людьми и разговаривал с ними, как с людьми, считая, что они „совсем как люди“, „только рубашка другая“. Медведи, по представлениям чукчей, — это люди, одетые в медвежьи шкуры. Эвенки, по свидетельству К.М. Рычкова, „не видят почти никакого различия между собой и животным миром и даже признают во многих отношениях превосходство последних над собой. Кроме того, полезные животные имеют такие же души, как и человек, даже более сильные и разумные“ [Рычков 1922. С. 89]. Один из рассказов эвенков о происхождении человека начинался так: „Вначале жил медведь-человек, собака тоже была человеком“. По поверьям бурят, волк слышит и понимает человеческую речь» [Соколова 1972. С. 44].
«В.Г. Богораз показал, что миф об умирающем и воскресающем звере является древнейшим охотничьим мифом, возникшим до земледелия и металлов и потому более ранним, чем выделенный Дж. Фрезером земледельческий миф об умирающем и воскресающем боге» [Соколова 1972. С. 54; со ссылкой на: Богораз-Тан 1926. С. 71].
В звериных образах, в том числе в образе волков, могли представляться шаманские духи-помощники: «Шаманскими духами-покровителями и помощниками были волки, собаки, койоты, лоси, орлы, гагары, чайки и другие животные и птицы. Шаман, изображая их, подражал их голосу, повадкам. <...> Главным духом-помощником шамана-бурята был волк. <...> У чукчей шаманские духи — чаще всего волк и ворон, мышь и сова, горностай, морж, белый медведь, у нивхов — волк, филин, сивуч, олень, заяц» [Соколова 1972. С. 92‒93].
Согласно традиционным представлениям нивхов, «медведи — это тоже „медведи-люди“, лишь перед людьми они имеют звериный облик. В любое время тигр или медведь могут превратиться в человека. Проводник В.К Арсеньева нанаец Дерсу Узала называл зверей людьми и разговаривал с ними, как с людьми, считая, что они „совсем как люди“, „только рубашка другая“. Медведи, по представлениям чукчей, — это люди, одетые в медвежьи шкуры. Эвенки, по свидетельству К.М. Рычкова, „не видят почти никакого различия между собой и животным миром и даже признают во многих отношениях превосходство последних над собой. Кроме того, полезные животные имеют такие же души, как и человек, даже более сильные и разумные“ [Рычков 1922. С. 89]. Один из рассказов эвенков о происхождении человека начинался так: „Вначале жил медведь-человек, собака тоже была человеком“. По поверьям бурят, волк слышит и понимает человеческую речь» [Соколова 1972. С. 44].
«В.Г. Богораз показал, что миф об умирающем и воскресающем звере является древнейшим охотничьим мифом, возникшим до земледелия и металлов и потому более ранним, чем выделенный Дж. Фрезером земледельческий миф об умирающем и воскресающем боге» [Соколова 1972. С. 54; со ссылкой на: Богораз-Тан 1926. С. 71].
О семъ дѣйствїи, такъ какъ и о китовомъ, <...> хотя сами Камчадалы сказать и не умѣютъ, касается ли оно до ихъ суевѣрїя или нѣтъ, и для чего бываетъ, однакожъ мнѣ кажется, что оное представляется вмѣсто комедїи только для увеселенїя, или чтобъ имъ прямыхъ китовъ и волковъ промышлять и ѣсть, какъ съ травеными поступали» [Крашенинников II 1755. С. 94‒95].
О семъ дѣйствїи, такъ какъ и о китовомъ, <...> хотя сами Камчадалы сказать и не умѣютъ, касается ли оно до ихъ суевѣрїя или нѣтъ, и для чего бываетъ, однакожъ мнѣ кажется, что оное представляется вмѣсто комедїи только для увеселенїя, или чтобъ имъ прямыхъ китовъ и волковъ промышлять и ѣсть, какъ съ травеными поступали» [Крашенинников II 1755. С. 94‒95].
