
Животные очень долгое время служили неким наглядным примером, своего рода упрощенной моделью жизни человеческого общества. В этом смысле использование образов животных в эпосе и в аллегориях басен, притч, анекдотов продолжает архаическую традицию» [Мандзяк 2008. С. 113‒115].
«Источникъ животнаго эпоса, по мнѣнiю Я. Гримма, заключается въ поэтическомъ созерцанiи народа, усматривавшаго въ разнообразныхъ способностяхъ и качествахъ звѣрей множество чертъ, общихъ съ природой людей. Все это непремѣнно должно было установить интимныя отношенiя между первобытнымъ человѣкомъ и мiромъ звѣрей. Отсюда вѣра въ превращенiе людей въ животныхъ и наоборотъ, вѣра въ переселенiе душъ, убѣжденiе, что звѣри — существа вѣщiя, обладающiя чародѣйственной силой, что звѣри одарены предвидѣнiемъ человѣческой судьбы, не лишены возможности говорить человѣческимъ языкомъ или обладаютъ своимъ собственнымъ, таинственнымъ говоромъ» [Колмачевский 1882. С. 2].
Животные, по сообщению этнолингвистического словаря «Славянске древности», это «объект мифологизации и символизации в народной зоологии» [Гура 1999. С. 217]. Народная традиция разделяет животных на две категории: «чистые, божественные, святые — нечистые, дьявольские (медведь, пчела, божья коровка, голубь, ласточка, аист — волк, заяц, змея, мышь, вошь, блоха, таракан, оса, летучая мышь, воробей, филин, ворон, ворона, ястреб, коршун, сорока, угорь и др.)» [Гура 1999. С. 218]. Среди животных, которым присущи хтонические черты, выделяются: «змея, ящерица, червь, лягушка, вошь и некоторые другие гады и насекомые, мышь, крот, волк, ласка, ворон, сова и ряд других птиц» [Гура 1999. С. 218]. Некоторые животные имеют своего «царя» или «хозяина», среди них: «волки, пчелы, воробьи, рыбы и др.» [Гура 1999. С. 218]. «В сферу народных представлений о Ж[ивотных] частично вовлекаются персонажи народной демонологии, прежде всего Ж[ивотные]-оборотни: «„волколак“, черт в облике зайца, жаба как обращенная ведьма и т.п. Это Ж[ивотные], наделенные демоническими свойствами: способностью менять облик и превращаться в человека или демона (человеком становится волк-оборотень по истечении срока заклятия, ведьма-жаба возвращает себе человеческий облик, змея превращается в „вилу“), происхождением от человека или демонического существа в результате оборотничества („волколак“ — от колдуна, принявшего звериный облик, сойка — обратившаяся в птицу смерть и т.д.» [Гура 1999. С. 219]. «В некоторых книжных жанрах, таких как „Физиолог“, образы Ж[ивотных] служат для истолкования и классификации моральных качеств человека [выделение наше, — прим. В.]. Зоологический код используется как средство классификации или характеристики различных предметов и явлений, и прежде всего как средство их языковой номинации:
- в сфере растительного мира (укр. заяча крiвця ՙзверобой՚, болг. вълча ябълка ՙкрушина՚),
- метеорологии (с.-х. вук се жени [волк женится] ՙгрибной дождь՚, рус. зайцы ՙхлопья снега՚),
- астрономии (рус. волчий хвост ՙПлеяды՚), гусиная дорога ՙМлечный путь՚),
- медицины (рус. воронья лапа ՙлишай՚, болг. гръдна жаба ՙгрудная жаба՚),
- техники (рус. воробчик, воробы ՙорудие для размотки и намотки пряжи՚, рус. журавль и пол. żuraw ՙколодец с длинным шестом՚, словац. vlček [волчок] ՙдеревянный крючок между задними раздвоениями дышла՚) и т.д.» [Гура 1999. С. 220].
В очень развитом виде описанные воззрения существовали у иранцев, в связи с чем неоднократно указывалось на иранские, в том числе авестийские, тексты, упоминающие „двуногих волков“ и называющие молодых членов мужских союзов mairyō волками и псами. Определенные данные, указывающие на существование таких представлений о воителях как псах-волках, имеются и специально для скифов» [Иванчик 1988. С. 40‒41].
А.С. Мандзяк делает важное замечание: «Ни славянский крестьянин, ни тем более воин, не мог себя отождествлять с овцой или голубем. Народ прекрасно знал по своим ежедневным наблюдениям, что и овца, и голубь — существа глупые, к тому же неспособные постоять за себя. Для славян характерно отождествление человека, тем более воина, с сильным животным» [Мандзяк 2008. С. 116].
Приведем <...> фрагмент из севернорусского заговора „На подход ко властям“: „И буди у меня, раба Божия, сердце мое — лютаго зверя льва, гортань моя, челюсь — зверя волка порыскучаго. Буди у супостата, моего властелина (имярек), сердце заячье, уши его тетерьи, очи его — мертваго мертвеца; и не могли бы отворятися уста и ясныя его очи возмущатися, ни ретиво сердце бранитися, ни белыя его руки подниматися на меня, раба Божия (имярек). <...> Вси цари и царицы, князи и княгини, бояра и боярины, и вси приказные люди, и мои супостаты (имярек) — вси овцы мои; я, раб, волк; своим ясным оком взгляну и поймаю, и в руки возьму, и на зуб брошу, раскушу и всем на пол плюну, и ногой заступлю и растопчу“ [Ефименко II 1878. С. 154 (№ 10); ср. также: Майков 1869. С. 147‒148 (№ 338)].
Здесь не только упоминаются те же животные <...> (волки и овцы), но и делается особый акцент на зрении („очах“) зверя. Описывается также жестокая („зверская“) расправа с супостатом» [Топорков 2005. С. 87‒88]. Насколько приемлемо такое поведение для «раба Божьего», каковым называет себя произносящий слова заговора, — вопрос, остающийся открытым.
Далее исследователь разбирает другие заговорные тексты, в которых фигурирует волк, например: «В состав заговора от ругани (вiд лайки) формула самоотождествления со зверем отмечена в украинском заговоре из Киевской области: „Я перед тобою, як вовк, а ти перед мною, як шовк“ (1929 г.) [Василенко‒Шевчук 1991. С. 321]» [Топорков 2005. С. 95].
В некоторых заговорах, наряду с волками и львами, фигурируют также медведи: «Иду, рап Божий имрак, и товарищев 42 человека, буди вы пред нами, аки овцы, а мы, аки волки пред овцами или яко лютыя звери медведи или лвы рыкающе на них, прогоняюще их...» [Топорков 2005. С. 90].
Согласно данным этнографии, магическая традиция уподоблять себя волку, а своих противников — овцам, дожила практически до нашего времени. По свидетельству А.Л. Топоркова: «Летом 2004 г. нам посчастливилось записать такую формулу в дер. Бураково Пудожского р-на Карелии. Когда идешь к начальнику, нужно сказать: „Вы — овцы, я — волк. Вы высоки, а я выше вас всех. Аминь“. То же самое говорит девушка на свадьбе, входя в новый дом.
Многочисленные фиксации таких формул относятся к XIX‒XX вв. Их произносили, как правило, входя в дом или выходя из него. Так, например, К.А. Авдеева в 1842 г. сообщала, что, войдя в дом, „вдруг надлежало взглянуть и думать или говорить: ″Я волк, ты овца; съем я тебя, проглочу я тебя — бойся меня!″“ [Авдеева 1842. С. 139‒140; ср. также: Майков 1869. С. 156 (№ 353)]. В Архангельской губернии человек, подойдя к дверям, брался за скобу и говорил: „Вставайте, волки и медведи, и все мелкие звери, лев-зверь сам к вам идет“ [Огородников 1866. С. 43 (№ 7); ср. также: Ефименко II 1878. С. 155 (№ 13); Майков 1869. С. 154 (№ 348)].
В Шуйском у. Владимирской губ. новобрачная трижды говорила, входя в дом мужа: „Я вам волк, вы мои овцы, бойтеся и любите меня“ [Гарелин 1867. С. 83]. В Приозерном р-не Архангельской обл. молодая в аналогичной ситуации шептала: „Вы мои овцы — я ваш волк. Сейчас вас съем“ [РЗЗ 1998. С. 152 (№ 803)].
В с. Турчасове Онежского у. если молодой после венца переходил жить в избу невесты, он говорил: „Я иду зверь лапист и горд горластый, волк зубастый; я есть волк, а вы есть овцы мои“ [Ефименко II 1878. С 146 (№ 7)]» и т.п. [Топорков 2005. С. 92‒93].
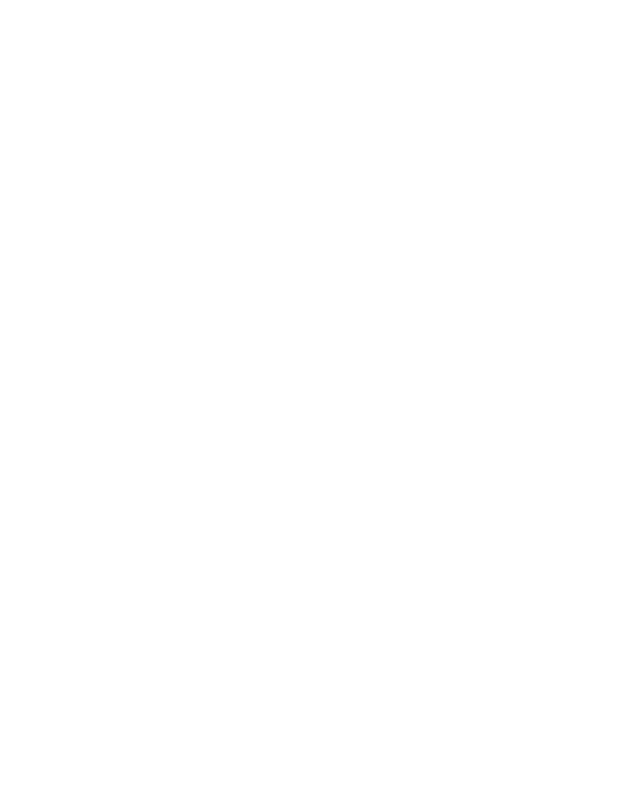
Исследователь и исполнитель русского фольклора, основатель и руководитель Историко-этнографического клуба «Белый Камень», наш друг и соратник Василий Бутров
В качестве бога войны В[олк] выступал, в частности, в индоевропейских мифологических традициях, что отразилось в той роли, которая отводилась волку в культе Марса в Риме и в представлении о двух В[олках] (Geri и Freki), сопровождавших германского бога войны Одина в качестве его „псов“ (аналогичное представление отмечено также в грузинской мифологии). Соответственно и сами воины или члены племени представлялись в виде волков или именовались волками (в хеттской, иранской, греческой, германской и других индоевропейских традициях) и часто наряжались в волчьи шкуры (древние германцы, в частности готы, во время праздника, о котором сообщают византийские источники). Согласно хеттскому тексту обращения царя Хаттусилиса I (17 в. до н.э.) к войску, его воины должны быть едины, как „род“ „волка“ (хетт. u̯etna — родственно др.-исл. vitnir „волк“, укр. вiщун, „волк-оборотень“). Аналогичное представление о волчьей стае как символе единой дружины известно на Кавказе у сванов. Богам войны (в частности, Одину) приносили в жертву волков, собак, а также людей, „ставших волками“ (согласно общеиндоевропейскому представлению, человек, совершивший тягостное преступление, становится волком); формула засвидетельствована по отношению к преступнику-изгою в хеттских законах, древнегерманских юридических текстах, а также у Платона (ср. др.-исл. vargr, „волк-изгой“, хетт. ḫurkilaš, „человек тягостного преступления“).
Связь мифологического символа В[олка] с нижним миром, миром мёртвых характерна для мифологии индейцев-алгонкинов, согласно которой В[олк] — брат Манабозо (На-на-буша) провалился в нижний мир, утонул и после воскрешения стал хозяином царства мёртвых. В „Эдде“ конец мира вызван чудовищным В[олком], сорвавшимся с цепи (ср. мифы о чудовищных псах в мифологии народов Центральной Евразии).
У восточных палеоазиатов (камчадалов, коряков) сохранялся „волчий праздник“, совершавшийся в связи с охотой на волка и представлявший собой обрядовое соответствие мифам о В[олке]. Ритуал переодевания в волчьи шкуры или хождение с чучелом волка у многих народов Европы (в т.ч. у южных и западных славян) приурочивался к осенне-зимнему сезону (ср. чеш. vlčí měsíc, латыш. vilka mēnesis — названия декабря — букв. „волчий месяц“, а также аналогичные названия в других европейских традициях).
Представление о превращении человека в волка, выступающего одновременно в роли жертвы (изгоя, преследуемого) и хищника (убийцы, преследователя), объединяет многие мифы о В[олке] и соответствующие обряды, а также т.н. комплекс „человека-волка“, изученный З. Фрейдом и его последователями и воплощённый в художественной форме Г. Хессе в романе „Степной волк“.
Для всех мифов о В[олке] характерно сближение его с мифологическим псом» [Иванов 1980. С. 242; см. также: Иванов 1975. С. 399‒408; Иванов 1977. С. 181‒213; Негматов‒Соколовский 1976; Потапов 1958. С. 135‒142; Alföldi 1974; Clouson 1964; Dumézil 1969; Eisler 1951; Eliade 1959; Gernet 1968; Gerstein 1974; Garfield‒Forrest 1961; Jacoby 1974; Jakobson 1966; Kretschmar 1938 и др.].
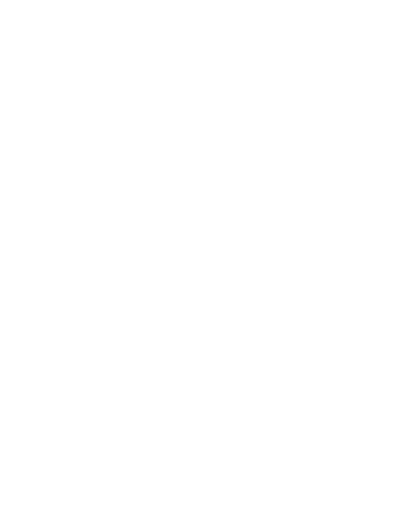
Ульфхеднар — воин-«волк». Деталь обкладки ножен конца VII в. из Гутенштайна (Баден-Вюртемберг)
С другой стороны, звериные шкуры и меха, по всей видимости, широко использовались в качестве одежды (или, точнее, элементов одежды) германцами: «Древние германцы одевались, по свидетельству Цезаря, в звериные шкуры, а Плиний пишет о том, что германцы носят льняные ткани и что они занимаются прядением в „подземных помещениях“. Тацит же, кроме одежды из звериных шкур, упоминает кожаные плащи с нашитыми украшениями из меха, а у женщин — одежду из холста, окрашенного в красный цвет» [ВГФ 1980. С. 12].
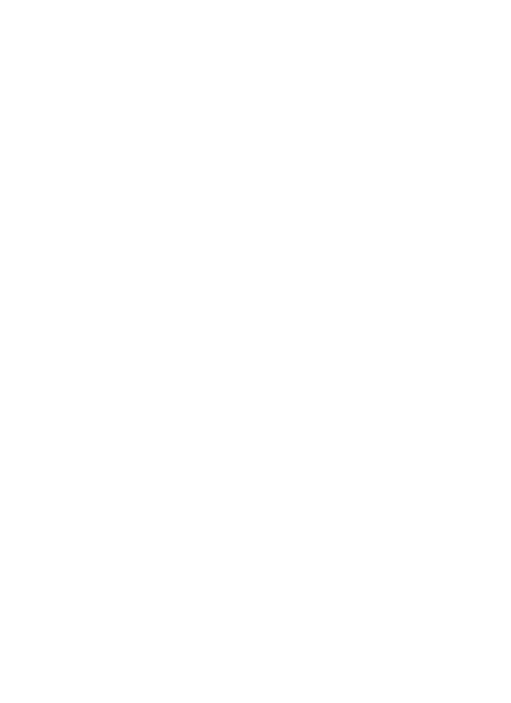
Снорри Стурлусон в изображении Кристиана Крога. Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна в Осло (Норвегия).
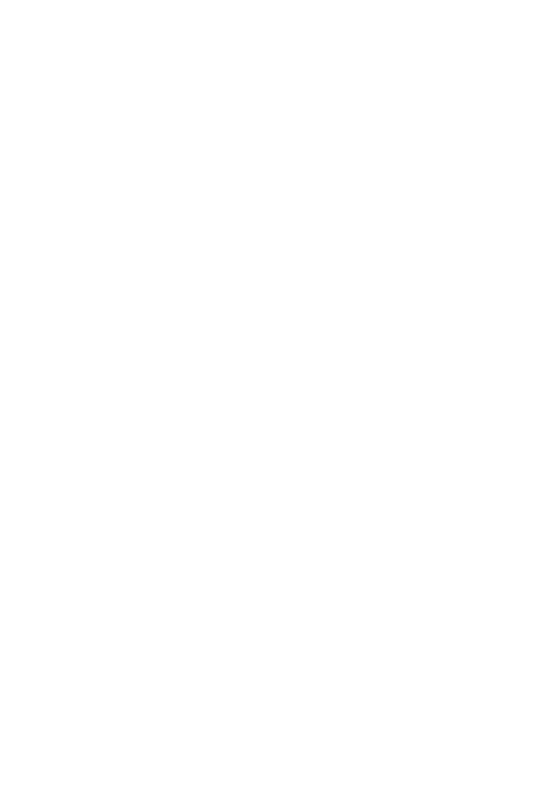
Óдин (почему-то не одноглазый) с волками с картины К.А. Васильева (1989)
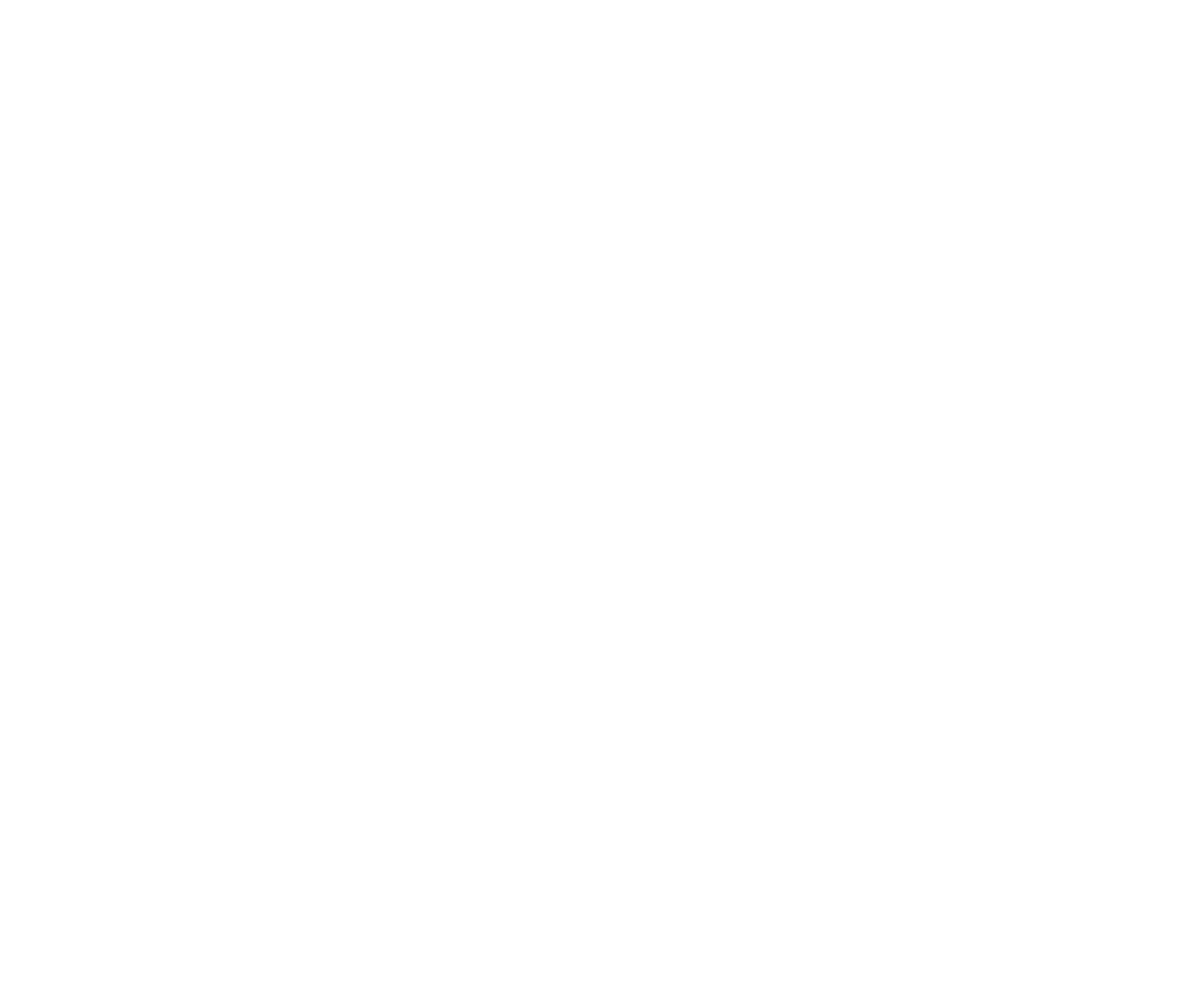
Средневековые шахматные фигурки — берсерки, грызущие свои щиты, с острова Льюис (Британский музей). На основании анализа стиля резьбы и одежды/экипировки фигур-персонажей вероятным временем их изготовления считается интервал между 1150 и 1200 гг.
А.А. Поздняков, исследовавший происхождение названий волка в индоевропейских языках, замечает: «При этимологизации скандинавских названий волка они не сопоставляются с индоарийскими и иранскими наименованиями этого зверя, зато родственными считаются др.-сакс. warag, др.-англ. wearg ՙпреступник՚, др.-в.-нем. warg ՙразбойник, грабитель, преступник՚, др.-слав. vragŭ ՙвраг, неприятель, противник՚. Семантически это сопоставление можно интерпретировать следующим образом. При бескормице в зимнее время волки часто нападают на домашний скот. Сходным образом ведут себя и некоторые люди, т.е. разбойники, грабители. Мифологические и фольклорные данные говорят о том, что исходное обозначение относилось к волкам» [Поздняков 2013. С. 90].
В германо-скандинавской традиции «волком» становится преступник-изгой, лишённый поддержки своего рода: «Ритуальное имя для золота и сокровищ — вместилищ силы и удачи рода — ауд (auðr). Лишиться ауда и радости — это квинтэссенция человеческого горя. Человек, переживший это, превращается в изгоя и становится волком: „Было бы местью / за гибель Хельги, / если б ты волком / скитался в чаще, / нищим и сирым, / вечно голодным, / разве что трупы / тебя б насыщали!“ — так Сигрун проклинает Дага, погубившего ее мужа Хельги» [Грёнбек 2019. С. 558‒559].
«В „Видении Гюльви“ Снорри поведал, как асы поймали Локи, принявшего образ лосося, его же сетью и связали кишками сына: „Превратили асы Вали в волка, и он разорвал в клочья Нарви, своего брата. Тогда асы взяли его кишки и привязали Локи к тем трем камням. Один упирается ему в плечи, другой — в поясницу, а третий — под колени. А привязь эта превратилась в железо. Тогда Скади взяла ядовитую змею и повесила над ним, чтобы яд капал ему в лицо. Но Сигюн, жена его, стоит подле и держит чашу под каплями яда. Когда же наполняется чаша, она идет выбросить яд, и тем временем яд каплет ему на лицо. Тут он рвется с такой силой, что сотрясается вся земля. Вы зовете это землетрясением. Так он будет лежать в оковах до Гибели Богов“» [Грёнбек 2019. С. 560].
Если имя и прозвище внука явным образом осмыслялось как цельное сочетание со значением „Вечерний Волк“, то имя и прозвище деда — Úlfr óargi — с большой вероятностью могло трактоваться как „Бесстрашный Волк“. Прозвище-эпитет „вечерний“ в значительной степени обусловлено, детерминировано именем. Вместе они обозначают оборотня, вервольфа, того, кто вечером оборачивается волком. Естественно предположить, что и прозвище-эпитет óargi также детерминировано собственным именем Волк (Úlfr), т.е. óargr подчеркивает то бесстрашие или ту свирепость, которые свойственны именно волку» [Успенский 2004. С. 97‒98].
Сага, о которой идёт речь выше, — это «Сага об Эгиле» (Egils saga Skalla-Grímssonar) [Исландские саги 1956. С. 61‒251]. Сага цитируется в переводе С.С. Масловой-Лашанской.
Схватка со зверем, также являющаяся одним из видов инициации, завершается поеданием его плоти и крови. Воину это должно придать силу либо мудрость противника, помочь обрести самые его ценные качества. „Победа“ человека над зверем трансформируется в переход таинства власти, в обряд передачи мощи, в результате чего зверь уже как бы и не умирает, а „воплощается“ в победоносном герое. Впрочем, обычай украшать себя бренными останками поверженного противника, присваивать себе его геральдику, иногда даже и его имя, то есть облик, обладает тем же значением. Ритуал поедания плоти и крови убитого противника, привычный в Tierkampf [„борьбе с животными“ (нем.), — прим. В.], приводил иногда к воинскому людоедству, что еще раз указывает на ритуальный характер каннибализма. Сейчас же нас интересует зоофагия, постоянно встречающаяся в германском мифе.
Германская сага демонстрирует нам „воина-зверя“ во всей красе. В известном смысле это „настоящий“ зверь. Своей звериной сущностью он обязан магико-ритуальной процедуре экстатического типа (пляска, употребление опьяняющих веществ, наркотиков) либо внешнему уподоблению какому-нибудь зверю (например, подражание его повадкам, одевание его шкуры, использование в качестве украшения его клыков и когтей или, наоборот, участие в сражении совершенно обнаженным, как зверь). Этот воин, подобно зверю, производит на человека колдовское действие, вселяя в него страх. Воины-звери терроризировали противника. Они обладали, или полагали, что обладают, даром неуязвимости, как, например, Гарольд Безжалостный, ввязывавшийся в бой раньше всех, сея смерть направо и налево, или викинги, которые, пока могли устоять на ногах, не прикрывали себя щитом, сбрасывали с себя латы и падали наземь лишь от усталости, а не от ран. Падали, испепеленные жаром собственного неистовства.
„Сага об Инглингах“ повествует о подобных ужасах, характерным образом сближая их со службой Одину, с одной стороны, и поведением диких зверей — с другой. Оказавшись в сражении, „воины-звери“ претерпевали метаморфозу, становились неутомимыми и бесчувственными. Если и не неуязвимыми, то будто неуязвимыми. Железо и сталь против них были бессильны. Атаковали они с криком и воем, как „дикари, подобные собаке и волку“, побросав оборонительное оружие. Если в руках у воина-зверя был щит, то он вгрызался в его край зубами, повергая противника в оцепенение. Один вид их и одежда наводили ужас. Все это эффектный и заранее обдуманный прием, применявшийся во время атаки. „Уловка“, придуманная для того, чтобы посеять панику в рядах противника. Но как известно, „уловка“ — основной момент всякой магической техники. Воздержимся поэтому от того, чтобы считать „звериное обличье“ германских воинов обычным тактическим приемом, рассчитанным на то, чтобы взять противника на испуг. Нет, это не простая военная хитрость. Стоит ли еще раз ссылаться на последние исследования антропологов и психологов, посвященные значению маски и переодевания. Гуманитарные науки и без того достаточно ясно продемонстрировали действие тех механизмов в культуре, посредством которых человек действительно становится тем, чью роль он играет в данный момент, чью, по выражению римлян, „личину“ (persona) он себе присваивает, в чьем облике существует. Германский воин, рычащий, как медведь, либо надевший на себя собачью голову, как бы на самом деле становился медведем, волком, бешеной собакой. Между ним и животным, с которым он себя отождествлял, устанавливалась симпатико-магическая связь.
Возьмем, к примеру, берсеркров. В более позднее время термин „берсеркр“ не вызывал удивления, так как это был синоним слова „воин“, иногда „разбойник“, в общем, опасной личности, подверженной приступам бешенства — bеrserkrsgang, не более того. Мирный скандинавский крестьянин средневековья, быть может, кое-что помнил об исконном смысле этого слова, знал отчасти содержание таинственного термина, но уже не испытывал особого страха. Прежде было совсем не так, и об этом свидетельствует этимология слова. Berserkr — это „медвежья шкура“, „некто в медвежьей шкуре, воплотившийся в медведя“. Обратите внимание — в медведя, а не просто в его шкуру. Разница принципиальная. За обыденным фактом — воин в медвежьей шкуре — скрыта более глубокая истина. Она переворачивает кажущееся значение слова. Воин, облаченный в медвежью шкуру, „воплощенный в медведе“, то есть „шкура“, личина медведя, из-под которой доносится его рык. Иными словами, одержимый медведем, если угодно, медведь с человеческим лицом. Воин — пленник медведя. Звериная шкура — это особого рода „магическая клетка“.
Бок о бок с берсеркром, облаченным в медвежью шкуру, лучше сказать воином-медведем, стоит úlfhedhinn, то есть „волчья шкура“, облаченный в шкуру волка воин-волк. Родственная связь воин-волк — воин-медведь столь тесна, что оба термина выглядят как взаимозаменяемые. О двух берсеркрах в исландском тексте сказано, что прозвище их было „волчья шкура“. Источники утверждают, что úlfhedhnar и berserkir действовали как по одному, так и небольшими группами. Подчеркиваются также их неуязвимость, свирепость, бесстыдство, то есть отсутствие нравственных представлений, и scelera improbissima — постыдное пристрастие к оргиям. В общем, нечто напоминающее малийский амок [от малайского (устар. малайзийского) amoq — „впасть в слепую ярость и убивать“, — прим. В.]. Так что предания о „волколаках“ и „оборотнях“ при сравнении с достоверными свидетельствами благодаря берсеркрам выглядят вполне правдоподобными.
Как интерпретировать роль и функцию воина-зверя в древнем германском обществе? Несомненно, речь идет о небольшой, резко отграниченной от основной массы свободных воинов группе. В какой-то момент к ней относятся с недоверием и страхом, затем с презрением. Берсеркров можно было бы сблизить с индийскими gandharva и их греческим родственником — кентавром. И те, и другие „демоны“ — полулюди-полузвери. Можно было бы сблизить и с всадниками из свиты Ромула — кровожадными, ворующими скот и женщин существами — или с тем же Феврием, покровителем римских всадников, которые в середине февраля рыскали по Риму, подобно волкам.
Везде обнаруживается связь человек-зверь, человек-конь (прозаичной римской религиозностью превращенный во всадника — eques), человек-волк, ставший затем „защитником от волков“. Инициационно-воинский компонент всех этих вне закона находящихся полузверей заметен в героических мифах: Ахилл воспитан кентавром, Ромул и Рем вскормлены волчицей. Как ни парадоксально, их роль состоит в том, чтобы обеспечивать порядок, установившийся в данной гражданско-религиозной системе, сама же эта система была символом и гарантией высшего космического порядка. Свирепые вторжения в будничный порядок вещей, систематическое и повторяющееся нарушение табу способствовали их укреплению. Осуществлялось возобновление и повторное обоснование упорядоченного течения жизни, то есть возврат к „давно прошедшим временам“, в периодическом напоминании о которых и состоит главная особенность традиционного общества. Так оно сохранило свое собственное лицо. Группы воинов-зверей были организованы как некий священный союз, цель которого заключалась в обеспечении своего постоянного восстановления. Их основная характерная черта — участие юношей, то есть тех, кого принято включать в разряд, определяемый латинским термином juvenes. Это слово констатирует не столько возрастную категорию, сколько первое цветение всех жизненных сил. Знаменательно, что речь идет о воинской общине. Ведь juuenes — это воины, выдержавшие инициационные испытания, только что взявшие в руки оружие.
Жизненный опыт juuenes отражен и в германском материале. Тацит выделил среди воинственных хаттов (где юноша считался воином, то есть приобретал полноту гражданских прав, только после убийства противника) отдельную группу, члены которой демонстративно несли бремя добровольного бесчестья: „Храбрейшие... носят железное кольцо (знак бесчестья у этого народа), как бы оковы, пока не освободят себя от него убиением врага. Очень многие из хаттов любят это украшение, а некоторые даже доживают до седин с этим отличием, обращая на себя внимание как врагов, так и своих соплеменников. Эти люди начинают все битвы, они всегда составляют передовой строй, вид которого поразителен. Но и в мирное время их лицо не приобретает более мягкого вида. Ни у кого из них нет ни дома, ни поля, ни другого какого-либо занятия; куда они пришли, там и кормятся, расточители чужого, равнодушные к своему достоянию, пока малокровная старость не сделает их слабыми для столь суровой добродетели“.
Вне всякого сомнения, это группа привилегированных воинов, выделяющихся среди прочих. Народ очень высоко ценил их военное искусство. Обычай носить на себе знак бесчестья, превращавшийся в знак почета, — это определенная воинская повинность. Все это очень напоминает воинско-рыцарский обет, обычай, распространившийся среди воинов в IV‒V вв. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы уделить хаттам внимание на страницах этой книги. Но это еще не все. Здесь нечто гораздо более значительное — сакральное сообщество (societas), имеющее собственный отличительный знак. Из свидетельства бесчестья он становится отличием славы. Членам сообщества было позволено во имя общего блага нарушать обычные социальные обязанности. Они не работали, не заботились о семье, были безбрачны. Община кормила их в обмен на выполнение ими воинского долга. То, что было постыдным для человека обычного, для них становится источником славы.
Но в какой мере вступление в этот „священный боевой отряд“ было добровольным, насколько было обусловлено объективными данными, не зависевшими от индивидуального выбора? Тацит утверждает, что эти воины — самые доблестные из всех. Как представляется, свидетельство слишком общее и субъективное. Что означает железный перстень? Что стоит за их странствиями за счет общества, за кормлением всеми? Не находятся ли они на положении „прирученных зверей“, обслуживающих нужды вполне определенной социальной группы?
На подобные вопросы вряд ли когда-либо будет найден исчерпывающий ответ. Главное — железный перстень. Уверенность, например, что всякий, кто наденет железный ошейник, может превратиться в медведя, до сих пор еще бытует в датском фольклоре. Кстати, именно в этом регионе мотив берсеркра сохранялся дольше, чем где-либо еще. В таком превращении, вероятно, присутствует элемент магии. В целом ряде источников об этом сказано с предельной ясностью. В „Слове о полку Игореве“, к примеру, превращение в волка-оборотня представлено как добровольный жест князя-чародея. В этом же памятнике, хотя и не явно, сказано о тех страданиях, которые выпадают на долю человека-волка. Правда, не совсем понятно, в какой мере они обусловлены двойственной природой человека-зверя, а в какой божественной карой за преступления, совершенные им.
Разумеется, христианские авторы, имея перед собой такого рода легенды, не могли не вспомнить о превращении в зверя Навуходоносора (Дан., 4, 30). После христианизации к воину-зверю относились как к одержимому, жертве бесовских сил. В ряде текстов принявший крещение берсеркр утрачивает способность перевоплощаться. Из других источников видно, что воин-зверь находился на положении больного и несчастного, над которым тяготел рок. В древнеисландских сагах встречаются, например, жалующиеся на то, что стали жертвой приступов бешенства (berserkrsgang). Они страдают от того, что не в силах более переносить эту болезнь. В сагах повествуется и об Ульфре, то есть о человеке, носящем имя Волк. Это берсеркр, решивший посвятить себя земледелию, но его природа порой берет верх над разумом, особенно по ночам. Ходят слухи, что он „из числа оборотней“ — „ночной волк“.
Еще драматичнее повесть о Сигмунде и Синфьотли [герои „Саги о Вёльсунгах“, входящей в цикл „Нибелунги“. — Прим. ред.], в которой можно угадать своего рода внутренние пружины, управляющие „тайным обществом“ берсеркров. В воинском сообществе роли четко распределены: престарелый инициатор-наставник и юный инициируемый, странствие и преступление, а также волшебная шкура, которая, если надеть ее на себя, „прикрепляет“ к звериному состоянию — из него уже нельзя выйти, оно толкает на дальнейшие преступления, вызывающие отвращение у самого несчастного, вынужденного их совершать.
Сигмунд и Синфьотли — отец и сын. Синфьотли к тому же плод кровосмесительной связи Сигмунда с сестрой Сигни, обманувшей брата колдовством, чтобы совокупиться с ним и родить племени Вёльсунгов мстителя. Разумеется, отец и сын ничего не подозревают. Тем не менее между ними уже существует тесная связь, намного превосходящая этически оправданную близость между членами комитата и этико-педагогические отношения между наставником и учеником, также заложенные в систему взаимоотношений, предусмотренную комитатом, где происходит общение между мужчинами разного возраста, ветеранами и новобранцами. Синфьотли вверен попечению Сигмунда, который должен воспитать из него достойного воина. Однако Сигмунд вынужден жить, скрываясь от преследований, так как его зять, король Сиггейр, истребитель Вёльсунгов, жаждет учинить над ним расправу. Сигмунд должен воспитать сына, чтобы он отомстил за поруганный род Вёльсунгов.
Однажды, бродя в поисках пропитания, отец и сын попадают в дом, где живут два зачарованных принца. У каждого массивный золотой перстень и волчья шкура, в которой они существуют — они самые настоящие волки. Только раз в пять дней могут они принимать человеческий облик. Роковым образом отец и сын попадают в их дом как раз в один из таких дней. Они становятся жертвой колдовских чар. Отец и сын тоже обретают волчью природу: начинают понимать волчий язык, перенимают волчьи повадки и волчью свирепость. Однако при этом они не расстаются ни с человеческой природой, ни с человеческим разумом, которые „загоняются“ в глубины их естества. Они „приговорены“ быть волками, а не просто быть на них похожими. Они вынуждены совершать жестокие поступки, так как не в силах им противостоять. Сигмунд впивается в горло сыну. Принеся его тело в хижину и сев рядом, он проклинает волчью жизнь. Только когда волчья личина оказывается преданной огню, колдовской туман рассеивается.
Подобные метаморфозы подчеркивают неотвратимость наказания. Это особенно отчетливо проявляется в „Эдде“. Клятвопреступнику, запятнавшему себя убийством, грозит превращение в волка. Звериная природа — это нечто, находящееся вне человеческой власти. Саги постоянно напоминают, что в человеке под спудом скрывается вторая природа, своего рода „внутренняя душа“, не поддающаяся его контролю. В снах и видениях она материализуется, приобретая облик животного. В зверином обличье являются людям и боги хранители семейного очага, племени, самого народа.
Разумеется, сопоставление хаттского воина, носящего железный перстень, с более поздним по времени воином-волком или воином-медведем, не выглядит достаточно убедительно: у хаттов отсутствует собственно звериный компонент, источники, повествующие о хаттах и воинах-зверях, довольно далеки друг от друга как по времени, так и по условиям их возникновения. У Тацита воины, носящие перстень, функциональны по отношению к хаттскому обществу, хотя и ведут нетипичный образ жизни. В сагах же берсеркры — опасные, находящиеся вне закона разбойники. Хаттский воин вызывает у окружающих не только страх, но еще и уважение. К берсеркрам относятся со страхом и отвращением. Быть может, отношение к ним менялось под воздействием следующих двух факторов: с одной стороны, были преодолены родоплеменные отношения, укреплялась централизованная власть, и сохранение автономных воинских групп стало для этой власти опасным. С другой — христианизация оказывала свое влияние на обычаи и законы, в них уже не вмещались столь беспокойные личности, какими были воины-звери. Итак, с одной стороны, функциональные изменения, с другой — культурное развитие.
Тем не менее нам представляется, что сам факт сохранения тематики воина-зверя в позднейшей литературе можно считать указанием на то, что культурная среда, в которой существовал воин-зверь, не претерпела сколько-нибудь коренных изменений на протяжении длительного времени. Учитывая предложенную французским исследователем Дюмезилем ритуальную функцию группы стоящих вне закона людей, можно предположить, что этой группе принадлежала также вполне определенная социальная роль: автономная вооруженная группа была призвана защищать своих соплеменников в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, так сказать, безвыходных положений. Павел Диакон, уже не понимавший или притворявшийся, что не понимает, дохристианские обычаи своего народа, рассказывал, например, что лангобарды, столкнувшись однажды с превосходящими силами противника, „сделали вид“, будто у них в лагере находятся „песьеголовые воины“. Они распространили слух, будто песьеголовые настолько свирепы, что питаются только кровью, за неимением крови врагов пьют собственную. Неясно, означает ли выражение „пьют собственную“ указание на кровь соплеменников или их собственную кровь.
Представления о песьеголовых, разумеется, восходят к сочинениям Плиния Старшего и Исидора Севильского [Исидор Севильский (ок. 570—636) — первый средневековый энциклопедист в Западной Европе. — Прим. ред.]. Правда, в данном случае ссылки на ученые авторитеты не могут помочь делу. Почему лангобардами был распущен слух именно о воинах с головами псов (или волков)? Почему они были уверены, что противник обязательно испугается? И главное, почему вздорному слуху поверили? Неужели его посчитали бы правдой, испугались бы подробностей насчет свирепости и кровожадности песьеголовых, не будь у лангобардов и их противника уходящих в глубь традиций общих корней, которые, судя по всему, Павлу могли быть и известны, но как христианин он предпочел о них особенно не распространяться. Насчет звериных масок накоплено немало документальных свидетельств. Этот обычай уходит в предысторию. Что касается употребления крови врагов, неважно — человечьей или звериной, то и это обычный компонент военной магии. То же относится и к „собственной“ крови, то есть крови „собратьев“. Так что рассказ Павла о песьеголовых, оказывается, гораздо достовернее и не так уж наивен. Вряд ли слух о песьеголовых всего лишь вздорная выдумка, как может показаться из текста Павла Диакона. Не исключено, что, попав в окружение, лангобарды прибегли к услугам тайной группы, так сказать, „разбудили зверя“, дремавшего до поры до времени. Слух слухом, но лангобарды всерьез угрожали противнику натравить на него своих воинов-зверей.
При всей фрагментарности и сомнительности источников перед нами, несомненно, исконный военно-религиозный обычай германцев. В их обществе известно существование дифференцированных воинских сообществ, обладающих особенной сакральностью. Иногда они были источником общественной опасности, иногда приносили общественную пользу. Эти сообщества состояли из прошедших инициацию воинов, которые своим внешним видом отличались от остальных людей. У них в ходу была специфическая эмблематика, особая манера поведения. Они вели нетипичный образ жизни. Их братство — „стая“, которая находилась на обочине гражданского общества. Но общество пользовалось их услугами. Говорить о них только как о „стоящих вне закона“, на наш взгляд, значило бы ограничиться односторонним и поспешным толкованием свидетельств, относящихся к более позднему времени.
Поясним: объявление их „вне закона“ происходит в конце концов и в скандинавском обществе, наиболее консервативном и ревностно охраняющем этот и прочие языческие обычаи германцев. Но для этого прежде должна была упрочиться сначала надплеменная, а затем и королевская власть. Должно было победить христианство.
В самом деле, юридические тексты, лучше сказать, тексты, поддающиеся юридической интерпретации, показывают весьма характерную эквивалентность употребления таких понятий, как „волк“, „преступник“, „изгнанник“, „находящийся вне закона“ — в общем, Friedlos, тот, кто по причине своих преступлений лишен обществом „прав состояния“, то есть поставил себя вне связи с той внутренней силой, которая обеспечивает мирное развитие и упорядоченное существование общины и которую можно перевести (однако только во внешне адекватном плане) латинским pax — „мир“. Несомненно, связь между „волком“ и „злодеем“, отразившаяся впоследствии и в повседневной разговорной речи, имеет весьма глубокое исходное значение. Вот два примера, из которых явствует, что англосаксы „находящегося вне закона“ именовали также „волчьей головой“. Деятельность „стай“, в которые входили преступники-волки, пагубно отражалась на тех слоях населения, которые несли на себе основное бремя производства в обществе. Именно им приходилось расплачиваться за чинимое „зверями“ насилие и грабежи. Несомненно, приговор, по которому тот или иной член общества считался отверженным, торжественно объявлялся на народном сходе. Он имел характер гражданской казни, полностью отсекая от своего народа того, кто подвергался этой мере наказания. Несомненно также, что „отверженные“ стремились объединяться в отряды-шайки и учреждать в своей собственной среде новые основания гражданского сожительства, чуждые тому племени, из которого они были с позором изгнаны.
Но все это, однако, история более позднего времени. Рассказ Павла Диакона, приведенный выше, повествует о группе лиц, удивительно напоминающих англосаксонских „отверженных“, хотя они и принадлежат другой исторической эпохе. Членам этой группы также приписывалось обладание песьей (лучше сказать, волчьей) головой. Это автономная и очень опасная группа.
Группа песьеголовых не существовала тем не менее отдельно от лангобардского народа. Престиж ее среди лангобардов достаточно высок. Это определялось прежде всего тем, что в трудную минуту они спешили на помощь своему народу. Разумеется, судя по более поздним источникам, опасных соседей в конце концов изгоняли за пределы гражданского общества. Вообще, им уподобляют многих преступников. В итоге возникала новая обособленная группа, в состав которой входили и воины-звери, и изгои. Характерно, что в скандинавских источниках термины berserkr и vikingr (изгои) сближаются по значению, а с XI в. приобретают только негативный смысл. Скандинавский вождь Иоанн, разбитый в 1171 г. под Дублином англо-римскими войсками, имел прозвище Wode — Безумец, — очевидно, как напоминание о свирепости Одина, считавшегося одержимым wut.
В конце концов христианство превращает человека-зверя не только в асоциальный тип, но и в страшилище, одержимое бесовскими силами. В саге о Ватнсдале рассказано, что в связи с прибытием в Исландию епископа Фридрека там объявилось много берсеркров. Их описание дано вполне в традиционном духе. Они творят насилие, произвол, гневливость их не поддается никакому контролю. По отношению к основной массе населения они самые настоящие изгои, их деятельность уже совершенно несовместима с обществом. Многое изменилось по сравнению с временами, которые описывали Тацит, Павел Диакон и авторы более ранних саг. О берсеркрах сказано также, что они „неприятны“ народу, ибо силой отнимают женщин и деньги, если же им отказывают, то обидчика вызывают на поединок; они лают, подобно свирепым псам, вгрызаются зубами в край своего щита, ходят по раскаленному кострищу босыми ногами. Берсеркры описаны как одержимые злыми духами. По совету новоприбывшего епископа их отпугивают огнем, забивают насмерть деревянными кольями (ибо считалось, что „железо не уязвляет берсеркра“) и сбрасывают их тела в овраг.
Не следует, однако, забывать, что воинский союз, по своему характеру инициационный и тайный, внес в ткань родоплеменных отношений германцев новый принцип солидарности, в основе которой была не только принадлежность к определенному племени, но и свобода выбора. Все зависело теперь от воинской доблести, ритуальной общности, специфических отношений с однородным и компактным, организованным по этническому принципу обществом. Воины-звери обладали своим собственным, отличающим их от прочих групповым сознанием. Их дружины (comitatus) создавались (быть может, с использованием инициационной воинской группы в качестве образца) благодаря притоку в них молодежи представителей разных этнических групп. Пример Ариовиста [Ариовист (I в. до н.э.) — вождь германского племени свевов. Ок. 58 г. до н.э. потерпел поражение от Цезаря. — Прим. ред.] в данном случае весьма показателен. Неужели и его дружинники — Friedlose (отверженные)? Отчасти, возможно, да. Однако этническое, социальное и юридическое происхождение дружинников самое разнообразное. Тот, кого считали Friedlose, по-братски делит все радости и невзгоды жизни, горечь поражений и радость побед со своим вождем. С ним он проводит и годы своего ученичества. Как знать, не зародыш ли это собственно рыцарства? Чувство гордости принадлежать к группе „лучших“ и „избранных“ — для окружающих. Счастье ощущать себя равноправным членом группы вопреки всевозможным юридическим и социальным различиям — для себя» [Кардини 1987. С. 112‒123].
Наш современник, основатель Славяно-горицкой борьбы А.К. Белов (Селидор), рассматривая «боевые тотемы воинов-славян» в своей одноимённой книге, приводит психофизические характеристики «волка» (как психотипа): «Значение тотема: захват пространства. Не обязательно это понимать буквально. В палеолите волк был единственным социальным хищником, нацеленным на объекты охоты человека. Поэтому первичная человеческая стая не могла не копировать охотничьи задачи волчьей „общины“. Более того, организация общества во времена первобытного голода строилась с учётом практической целесообразности роли каждого члена родового коллектива. Поэтому умело организованная охота была важнейшим критерием пригодности человека к жизни. А с учётом того, что палеолит длился десятки тысяч лет, поведение людей сформировало инстинкты, заменяющие долгий процесс обучения и понимания задачи. Таким образом, десятки тысяч лет предки славян культивировали ролевое поведение волков, перенося его на свою тактику и стратегию охоты. <...>
„Волки“ бывают двух типов: одиночки и коллективисты. Но одиночки — обычно плохие „волки“, потому что они не адаптированы к стае, не приучены к коллективному взаимодействию. Природа „волка“ состоит из 7 „п“:
- поиск;
- последовательность (или преследование);
- постоянство;
- практичность;
- предусмотрительность;
- подчинение (или подчиняемость);
- повиновение.
„Волк“ всё время находится в движении. Возможно, это и послужило поводом считать его поведение „рыскучим“ беспокойством. Спокойным „волк“, в принципе, быть не может. Пространство, которое захватывает „волк“, требует постоянной борьбы и постоянного контроля. <...> Поэтому его системным поведением и является подвижность. А точнее — стремление к действию, к самопроявлению» [Белов 2013. С. 19‒20].
В самом деле, физические данные и психологические особенности, доминирующие в данном этносе, не могли не наложить свой отпечаток на этнические «стили» воинских искусств (наиболее разработанные варианты «звериных» стилей мы находим в восточных единоборствах): «Известно, что многие повадки и приемы, которые подсматривали на охоте воины за животными, использовались в ратном деле (например, существуют приемы: „волчья поступь“ или „медвежий“ удар оплеухой)... Избирая своим тотемом определенного зверя, молодые воины перенимали и повадки его в зависимости от обстоятельств окружающего мира» [Максимов 2010. С. 118]. Если медведь «отличается грузной мощью» [Максимов 2010. С. 118], то волк берёт выносливостью, способностью к долгому преследованию, ловкостью и т.д.
Далее автор высказывает предположение, что «волчьи союзы» (состоявшие, как утверждает С.Г. Максимов, из подростков, аналоги чему мы находим в других культурах) «полноценно сохранились у славян до VII века, пока господствовала подсечная система земледелия» [Максимов 2010. С. 118].
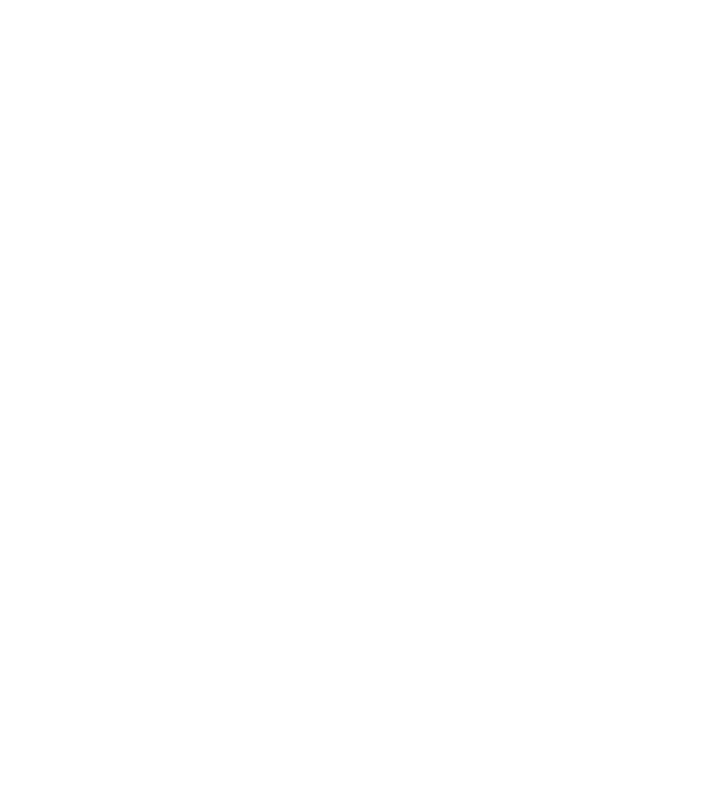
Нарукавный шеврон разведывательно-диверсионного подразделения «Бели Вукови» («Белые Волки»), входившего в состав Сараевско-Романийского корпуса Войска Республики Сербской и участвовавшего в Боснийской войне. В подразделении воевали, помимо прочих, русские добровольцы.
И далее: «Запорожская сечь стала своеобразным хранителем „волчьего“ культа. „Само прозвище ″атаман″, полученное, согласно запорожским обычаям, в Сечи, имеет явную волчье-собачью этимологию, поскольку является одним из наиболее распространенных в Украине собачьих имен“ [уточнено и исправлено по изд.: Балушок 1996. С. 97]. Остров Хортица, на котором расположилась изначально Запорожская Сечь, был древним культовым местом, он был упомянут Константином Багрянородным как остров св. Григория. Он же сообщает, что когда россы, спускаясь вниз по Днепру, минуют последний порог, то на этом острове совершают жертвоприношения, связанные ритуалом с дубом, стрелами, принесением в жертву животных» [Максимов 2010. С. 126].
В трактате «Об управлении империей», написанном византийским императором Константином VII Багрянородным (905—959), одним из образованнейших людей своей эпохи, в главе под названием «О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь», помимо прочего, читаем о росах/русах: «они достигают острова, называемого Св. Григорий. На этом острове они совершают свои жертвоприношения, так как там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие — кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обычай. Бросают они и жребий о петухах: или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми» [Константин Багрянородный 1991. С. 49]. «Моноксилами» (μονόξυλον) византийский автор называет небольшие суда, выдолбленное из ствола одного дерева.
В настоящее время мы можем только в самых общих чертах предполагать, какова была специфика «стилей» славянских единоборств, как проходили ритуалы посвящения молодых людей в члены воинских союзов и как осмыслялась в древности связь воина со своим звериным «тотемом» (если такая постановка вопроса, вообще, корректна). Даже о структуре и назначении воинской дружины, фигурирующей во множестве древнейших старославянских и древнерусских письменных источников, научные дискуссии далеко не завершены [Стефанович 2012].
Из сообщения датского хрониста Саксона Грамматика (втор. пол. XII — нач. XIII в.) мы знаем о трёхстах воинах Арконы, воевавших под стягами Свентовита: «Также этому богу принадлежало три сотни коней и столько же сражавшихся на них воинов, при этом вся их добыча, получали ли они её в бою или во время грабежа, поступала под охрану жреца. На полученные от продажи этих вещей деньги он изготовлял разного рода священные инсигнии и прочие украшения для храма» [Саксон Грамматик II 2017. С. 214‒215]. При этом «известно, что свои воины были и у языческих храмов в Щецине» [Саксон Грамматик II 2017. С. 399 (сноска № 436)].
О том, какими психофизическими качествами могли обладать эти воины, высказывались различные предположения, научные и не очень [Альверт 2020], и мы, конечно, можем предполагать, что среди храмовых воинов славянской Арконы бытовало некое особое воинское «знание», возможно, даже как-то связанное со звериным «тотемом» (только тогда уж, скорее, не волка, а славяно-варяжского сокола), но, к сожалению, никакие аутентичные источники, способные пролить свет на данную тему (литературные фантазии не в счёт!..), науке в настоящее время не известны.
По данным А. Пастернака, запорожские казаки ели мясо волка и в других целях: „Казаки считали: кто ест волчатину регулярно, а зимой особенно, — жить будет долго, сохраняя острый слух и зрение. А свежее волчье мясо, приложенное к ране, заживит ее быстро, ″как на собаке″. А это немаловажно для тех, кому приходится жить промеж рек, болот, озер, кому лихоманки /лихорадки/ как кость в горле стали...
Волчьей шкурой (хутром), распаренной над кипящим казаном, растирали больное место, когда ″поперек узяло″. И спали, шкурой обмотавшись. И часто вставали с утра уже здоровыми... Известны и рецепты травяных отваров на ″вовчiй водi″ /″волчьей воде″/. Что это было? Густой бульон или разведенный? С мяса или костей? Сейчас сказать трудно: ответ таится в тьме веков“ [Пастернак 2001. С. 20‒21].
Именно в связи с верой, что через употребление мяса животного можно приобрести его качества, в рационе многих племен определенные животные являлись запретными» [Мандзяк 2008. С. 123‒124]. В уже цитированной выше древнеисландской «Саге об Инглингах» (Ynglinga saga; перв. пол. XIII в.) находим подтверждение этому верованию: «На другой день Свипдаг велел вырезать сердце у волка, изжарить его на вертеле и дал его съесть Ингьяльду. С тех пор тот стал очень злобным и коварным» [Круг земной 1980. С. 30].
В.Г. Балушок, исследования которого, в частности, широко использовал в своей работе С.Г. Максимов, предполагал, что во время инициатических обрядов: «Кроме употребления галлюциногенов происходило, вероятно, и поедание инициируемыми особой ритуальной пищи, как это вообще принято у многих народов при проведении инициации. У древних германцев иницианты, которые „превращались“ в волков и медведей, ели их мясо и пили их кровь. Это, как верили в древности, придавало посвящаемым силу, ярость и другие качества данных хищников [Кардини 1987. С. 112].
Мифологические рассказы о волкодлаках [подробнее о них см. далее, — прим. В.] также повествуют о том, что в ряде случаев „превращенные в волков“ поедают печень и сердце животных. Эти органы, в соответствии с народными верованиями, — место средоточия жизненных сил. Возможно, об употреблении инициантами крови и мяса волка в древности свидетельствует и тот факт, что в описанном П.В. Шейном обряде превращения человека в волка на превращаемого капали волчью кровь [Шейн III 1902. С. 253]. Среди польских охотников зафиксированы особые посвящения, в ходе которых иницианты поедали волчью печень и им мазали лицо кровью первого убитого ими зверя» [Балушок 1996. С. 96].
Закончим эту главу словами адыгской песни, взятыми эпиграфом к замечательному исследованию мужских союзов народов Большого Кавказа «Джигит и Волк», весьма точно отражающими, на наш взгляд, состояние воина-«волка», к какому бы народу он ни принадлежал по крови:
«Над нами на небе одна луна.
Под нами тропа на земле одна.
На этой тропе есть кровавый след,
И мертвые есть, а трусливых нет» [Карпов 1996. С. 3].
